Владимир Микушевич: русский брахман
Владимир Борисович Микушевич, выдающийся мыслитель, переводчик, поэт и писатель, бесспорно, был посвящён в тайны мироздания. Осмысление его гениального наследия ещё только предстоит будущим поколениям. (на фото: Владимир Микушевич зачитывает "Боташовщину", 2013 год. Автор фото - Мария Лушникова)
Гений парадокса
Однажды мы с моим другом Олегом Фоминым, лидером группы ЗЛЫДОТА, обсуждая образ мыслей Владимира Микушевича, пришли к выводу, что наш учитель обладает «парадоксальным» мышлением.
Это было в начале 2000-х после одной из лекций, в ходе которой Владимир Борисович дал нетривиальную трактовку романа Булгакова «Мастер и Маргарита»: по его версии, всё действие этой книги происходит в фантазиях Мастера и Ивана Бездомного, сидящих в сумасшедшем доме. А, значит, в жизни Мастера не было Маргариты, так же как в жизни Ивана Бездомного не было Воланда. Мастер сошёл ума, осознав, что написал бездарное произведение об Иешуя Га-Ноцри, который, скорее, похож на заурядного, хотя и праведного человека, нежели на Иисуса Христа, говорил Микушевич.
Действительно, непредсказуемость и парадоксальность суждений обнаруживалась у Микушевича во всём: и в блестящих лекциях (начиная от постановки вопроса, развития темы и заканчивая выводами. Яркий тому пример – передача «Магистр игры», которую учитель вёл на канале «Культура»), и в самой обычной беседе, казалось бы, на простые темы, и, конечно, в его творчестве (поэзии, прозе и переводах).
Это умение «парадоксально» мыслить приводило к появлению необыкновенно захватывающих фантасмагорических сюжетов, одновременно поражавших глубиной, драматизмом и иронией. При этом отправной точкой для создания произведения зачастую служили подлинные жизненные истории и обычные (или необычные) люди.
Так, в стиходействе «Боташовщина» о легендарном алхимике, мистике и основателе города Гусь-Железный Андрее Родионовиче Баташове помимо самого Баташова фигурирует Павлик Морозов и прадед Микушевича – Антип Захарович Простодушев, который предоставляет слово легендарным действующим лицам.
А главный действующий герой новеллы «Лушкин лес» (из книги «Будущий год») – Лукреций Лушкин – был задуман Владимиром Борисовичем после услышанной им истории о том, как мой прадед Лукьян Лушников скрутил и вывел в деревню напавшего на него в лесу волка (череп этого лютого зверя до сих пор хранится в нашей семье).
Уйти в леса
Вообще, тема леса, «ухода в лес» появилась не случайно. В этом проявлялось брахманское начало Микушевича, которое, в числе прочего, выражалось в тяге к уединению и отшельничеству.
- Что вы здесь делаете, Лукреций Лукьянович? – спросил Анатолий.«Лушкин лес», новелла из книги «Будущий год»- Не Лукреций, лушак я, лушак, – прохрипел голос, отвыкший говорить.- Почему вы домой не возвращаетесь?- Она увела меня, Лушка…- Как увела?- А так… Лушака сволочьё обижало.- Какое сволочьё?- Сволочьё голопузое… Людишки-лютишки…- Где же вы теперь живете?- Там, – Лукреций мотнул головой в сторону леса, где между деревьями Анатолий заметил другую косматую фигуру.- Но ведь зима идет.- А лушак с Лушкой завтра заснет, до весны.- Пойдемте домой, Лукреций Лукьянович, – потянулся к нему Анатолий. Но лушак одним огромным прыжком перемахнул через кучу мусора и обнялся с другой косматой фигурой. Анатолий видел, как в сумерках между деревьями движутся в обнимку два светящихся облика, и у них вместо шерсти лучи.
Тут впору будет напомнить, что при советской власти стихи Микушевича не печатали. Причём, без объяснения причин. Поскольку ничего антисоветского в его стихах не было, отказывали, судя по всему, потому, что Микушевич никогда не пытался встроиться в систему. Да и как могло быть иначе? Истинная поэзия не терпит конъюнктуры.
Учитель рассказывал, что ему однажды позвонил очень знаменитый поэт. Они долго беседовали, и когда разговор зашёл о поэзии, между ними состоялся примерно следующий диалог:
– Вы меня, конечно, презираете, – сказал очень знаменитый поэт.
На что Владимир Борисович со свойственной ему иронией ответил:
– Спасибо вам за то, что вы делаете. Иначе бы мне пришлось писать те стихи, которые пишете вы…
Травма, связанная с многолетним отказом издательств публиковать его творчество, останется с Микушевичем на всю жизнь и не пройдёт даже после того, как в 2000-х будут изданы долгожданные книги. В то же время это замалчивание не сломало мыслителя, а напротив придало уверенности в правильности выбранного пути.
ПАМЯТНИКВладимир Микушевич (1976)В музейной рухляди была забыта лира,Забыта Библия среди сожженных книг,А я себе в мой век не сотворил кумираИ памятник себе поэтому воздвиг.Готовый предпочесть изгнанью заточенье,Гонений избежав и не снискав похвал,Уединение и самоотреченьеСоблазнам вопреки я смолоду избрал.И не участвовал я в повседневном торге,Свой голос для других в безвременье храня;Кретьен, Петрарка, Свифт, Бодлер Верлен, Георге,Новалис, Гёльдерлин прошли через меня.В готических страстях и в ясности романской,В смиренье рыцарском, в дерзанье малых сихВсемирные крыла культуры христианскойПризвание моё, мой крест, мой русский стих.Останется заря над мокрыми лугами,Где речка сизая, где мой незримый скит,И церковь дальняя, как звёзды над стогами,И множество берёз и несколько ракит.В России жизнь моя – не сон и не обуза,В России красота целее без прикрас,Неуловимая целительница Муза,Воскресни, воскресив меня в последний час!
Когда Олег Фомин жаловался нашему учителю на сволочей и бездарностей, которые мешают ему воплощать задуманное и не способны оценить его творчество, Владимир Борисович каждый раз с брахманской мудростью и смирением цитировал Пушкина: «Ты царь: живи один».
Одиночество – удел гениев. И Микушевич, как и многие великие, «жил один».
Несколько лет назад зимой я, заболев, не смогла приехать в Мочаловку (так учитель называл свою родную деревню Малаховку, где родился и провёл всю жизнь) на именины его жены Татьяны Владимировны. Микушевич был расстроен. Вернувшись с именин, Фомин рассказал, что в самый разгар застолья на кухне старенького дачного дома неожиданно произошёл взрыв – рванула газовая колонка, в который выкипела вода.
Все вскочили и бросились посмотреть, что произошло.
Микушевич, всегда тяжело переживавший поломку бытовых приборов и чувствовавший себя в такие моменты абсолютно беспомощным, вошёл на кухню и обречённо опустившись на стул, с отчаянием и одновременно с нескрываемой иронией (с отсылкой к Эрнсту Юнгеру?) воскликнул:
– Ну всё, капец! Маша не приехала… Колонка взорвалась…
И далее после тяжкого вздоха, обращаясь к жене:
– Танечка! Я ухожу в леса…
Микушевича действительно «тянуло в леса». Гениальному мыслителю, посвящённому в тайны мироздания и говорящему со стихиями на одном языке, было тесно среди людей.
Однажды в начале 2000-х мы с учителем возвращались из ИЖЛТ (Институт журналистики и литературного творчества, где он преподавал) и обсуждали книгу Монфокона де Виллара «Граф де Габалис, или Разговоры о тайных науках». Мы стояли на перроне в ожидании подъезжающего поезда, как вдруг я спросила:
– Владимир Борисович, а к какому из духов стихий вы себя относите?
В этот момент подошёл поезд, двери открылись, и войдя в вагон, Микушевич в абсолютной тишине громогласно и торжественно объявил:
– Ну конечно же, Маша, я саламандр!
Пассажиры замерли. До следующей остановки никто из них не проронил ни слова – все с интересом изучали необычного, похожего на сказочного персонажа старца, попавшего в вагон как будто из другой реальности.
Да, Микушевич умел эпатировать.
Как-то раз после его лекции в МАРХИ один из шибко продвинутых слушателей неожиданно решил устроить «батл». Желая свою образованность показать, умник засыпал лектора вопросами, только – вот незадача – каждый раз неверно цитировал классиков. А Микушевич эти ошибки подмечал. В аудитории воцарилась гробовая тишина, все не дыша следили за развитием событий.
– А вот скажите, вы утверждаете то-то и то-то, однако великий философ N указывал, что… (далее следовала цитата), – выступал умник.
– Ссылаясь на великого философа N, – парировал Микушевич, – следует цитировать его правильно… (далее следовала цитата).
Баталия продолжалась минут двадцать. Затем умник иссяк. Зал взорвался бурными аплодисментами.
Вообще, аплодисменты после лекций Микушевича (по крайней мере в Институте журналистики и литературного творчества) были обычным делом. Студенты его любили. ИЖЛТ даже называли институтом «одного преподавателя». «А в других нет ни одного», –иронизировал Микушевич.
Учитель вспоминал, как в 1995 году его побоялись взять на должность преподавателя во Фрайбурге, где он читал курс лекций. Все восхищались его талантом и широчайшим кругозором, однако власти предержащие действовать не хотели, а интеллигентская общественность не имела влияния. Не удивительно: гениальных людей боятся и завидуют им. «Даже если бы вы работали у них истопником, – сказала Владимиру Борисовичу преподаватель немецкого университета, – все студенты день и ночь пропадали бы у вас в котельной».
Именно так и было бы. Микушевич имел необыкновенное влияние на учеников: он был для них путеводной звездой – открывал горизонты и пробуждал творческие силы. Даже экзамены превращались у него в оригинальный творческий процесс – беседу, во время которой не учитель студентам, а студенты должны были задавать вопросы учителю. И, надо сказать, это было весьма непросто. Одна из учениц Владимира Борисовича призналась мне, что однажды просидела весь экзамен молча, не смея открыть рот, чтобы не сморозить какую-нибудь чушь. Такой силы было влияние Микушевича на людей. И это при том, что он держал себя просто и общался с учениками доброжелательно.
Как-от раз на экзамене немецкого языка произошла занятная история. Владимир Борисович никак не мог добиться от первокурсников толкового результата. Поняв безнадёжность ситуации, он со свойственной ему иронией обратился к студентам:
– Ну хоть кто-нибудь скажите что-нибудь по-немецки!
– Hände hoch, – скромно ответил непонятно каким ветром занесённый на этот экзамен поэт и будущий политэмигрант.
– Пять! – ликуя выпалил Микушевич.
Софья Смарагдовна
Многих интересовало, какой философской концепции придерживается Владимир Микушевич и можно ли его отнести, например, к софиологам. Это учение действительно во многом перекликалось со взглядами учителя. Однако несмотря на его благоговейное отношение к Софии Премудрости Божьей софиологом он себя не считал. При этом образ Софии был одним из центральных в его творчестве: Премудрость Божья (она же Софья Смарагдовна) довольно часто предстаёт в стихах и прозе Микушевича, давая знать о своём появлении запахом мёда и липовым цветом.
ЗАПАХ ПОБЕДЫВладимир Микушевич (28.06.2024)И скрежетало, и выло,Но в темноте всё равноБомбоубежище былоЛипами осенено.В небезопасной берлогеПять мне исполнилось лет,И при воздушной тревогеСлышался липовый цвет.Память велит мне: Поведай,Что испытал ты в бреду;Это же пахло победойТак в сорок первом году.И говорит откровенноДревняя мудрость земли:Мы победим непременно.Только бы липы цвели!
В частности, образ Софьи Смарагдовны великолепно отображён в рассказе «Софьин сад», действие которого без сомнения (и не случайно!) происходит на подмосковной даче писателя в Малаховке.
Теперь уже никто не мешал мне ездить в Мочаловку, и каждый день после работы я отправлялся в Софьин Сад. Одно время я даже снимал комнату в Мочаловке, но и это ни к чему не привело. Софию я неожиданно встретил в городе, когда спешил на работу. София шла впереди меня с непокрытой головой, и снежинки таяли на ее золотисто-каштановых волосах, как будто обсыпанных липовым цветом. Я догнал ее и пошел с нею в ногу, не зная, что сказать. София ничего не шепнула мне на этот раз, она только напевала про себя:(«Софьин сад», новелла из книги "Будущий год")С душою душа даже в небе цела;И кто бы, неведомый, нас не рассек,В раю человек человеку – пчела,И ты пчеловек, если ты человек.
София – первое и непадшее творение Бога, говорил Микушевич. Гностики лгут: падшей Софии не бывает. Существо Софии Премудрости Божией – целомудрие. Тем не менее, в романе «Воскресение в Третьем Риме» одна из главных героинь – мадам Литли – это своего рода падшая София, тоскующая о своём падении и охотящаяся за истинной кровью.
Почему же учитель не считал себя софиологом?
Причина в том, что как величайший мыслитель, Микушевич не вписывался в рамки философских концепций. Он был мудрецом, способным находить истину в самых разных религиозных течениях и системах знаний. Его мудрость была бездонной, а ход мысли – непредсказуемым и парадоксальным. И именно это парадоксальное, малопонятное для «жертв школьной науки» (такую характеристику Микушевич давал людям, воспитанным на позитивистской концепции образования) мышление, давало ему возможность не загонять себя в тиски каких бы то ни было учений. Впрочем, одним из любимых философов учителя был титан мысли Алексей Фёдорович Лосев, что может многое сказать о мировоззрении Микушевича. К слову, Лосев намёком предстаёт в романе «Воскресение в Третьем Риме» под именем Платона Чудотворцева, – своего рода пророческом произведении, в котором Владимир Борисович отразил свои философско-мистические воззрения.
Поскольку Микушевич обладал «полифоническим» мышлением, описать его систему взглядов едва ли возможно. Даже раскрытие смысла любого из афоризмов, например, из книги «Проблески» (https://artagrad.ru/articles/295/vladimir-mikusevic-tolkovanie-aforizmov-iz-knigi-probleski) тянет как-минимум на диссертацию. И всё же попробуем выделить основное.
Тайнознатец Слова
Микушевич осознавал бытие как высший миропорядок, где царит Правда (которая на Руси понималась как первоначало самого бытия, распространяющееся на всю вселенную) и как миф (по А.Ф. Лосеву – развёрнутое магическое имя), который расположен у истоков бытия и определяет всё бытие. Соответственно, и отношение к языку (я – зык) у него было как к истинной стихии мифа, пятой стихии, квинтэссенции мира. Не случайно Владимир Борисович говорил, что даже оригинал стихотворения – это перевод со сверхязыка, с божественного на человеческий.
ГЛАСНЫЕ. Из Артюра Рембоперевод Владимира Микушевича с французского«А» чёрный, белый «Е», «И» красный, «У» зелёный,«О» голубой – цвета причудливой загадки;«А» – чёрный полог мух, которым в полдень сладкиМиазмы трупные и воздух воспалённый.Заливы млечной мглы, «Е» – белые палатки,Льды, белые цари, сад, небом окроплённый;«И» – пламень пурпура, вкус яростно солёный –Вкус крови на губах, как после жаркой схватки.«У» – трепетная гладь, божественное море,Покой бескрайних нив, покой в усталом взореАлхимика, чей лоб морщины бороздят;«О» – резкий горний горн, сигнал миров нетленных,Молчанье ангелов, безмолвие вселенных:«О» – лучезарнейшей Омеги вечный взгляд!
В своих трудах по теории перевода он исходил из онтологического понимания языка как означающего бытие и являющегося бытием, а не просто системой знаков, и подчёркивал, что в языке главное не сказанное, а НесказАнное. Кроме того, он вслед за Фердинандом де Соссюром, утверждавшим, что поэзия начинается с подражания звукам божественного имени, полагал, что звук первичнее значения, и что во всяком слове таится анаграмма. Вообще, Микушевич был любителем анаграмм. Его книга «Стихиры» целиком построена на анаграммах, кроме того, их немало в романе «Воскресение в Третьем Риме» (например, Литли – Лилит, Марина – Ариман, Цуфилер – Люцифер).
Несомненно, Слово было краеугольным камнем мировоззрения Микушевича. Будучи человеком русским и православным, он считал, что Слово лежит в основе всего. Размышления о таинственной силе и энергии Слова можно найти во многих его трудах, в частности, рассуждения о Слове и Несказанном (Неизреченном, Сокровенном) великолепно представлены в книге «Умная сила» – мощном и самом объёмном труде, своего рода философской автобиографии мыслителя:
«В русском духовном опыте неизреченное есть высшая степень откровенного. Неизреченное искажается мирскими, суетными, приблизительными словами. Неизреченное – это само Слово в отличие от слов. <…> Православный молчальник являет Слово всем своим существом, чтобы не извратить Его неподобающим произнесением».из книги "Умная сила"А также:«Взаимодействием тайного и явного образуется бытие; свидетельство бытия о самом себе — Слово. Поскольку Слово обозначает Бытие, в Слове сохраняется то же соотношение тайного и явного. Мы не знаем всех значений Слова, ибо этим значениям нет числа. Ни одно из слов не является Словом, но в каждом из них может проявиться Слово. Лингвистика изучает слова, философия осмысливает Слово. Мы узнаем значения Слова во времени, но пока мы их узнаем, одни значения устаревают, а другие обнаруживают новые смыслы. Неисчерпаемость познания есть Тайное, а свидетельство Тайного — Несказанное. Несказанное ведет к Слову, Слово угадывается в Несказанном. Несказанное — череда значений во времени, Слово — одновременность значений. Слово действенно, значит, Слово обладает энергией: энергия Слова — умная сила. Несказанное притягательно, поскольку в Несказанном энергия Слова дает себя знать. Несказанное совпадает со Словом, пока Слово не явится в Откровении. Творчество — взаимодействие Слова и Несказанного. Культура — остановленное творчество. Творчество опровергает культуру, обгоняя ее; культура перестает существовать, когда творчество с ней совпадает. Философия культуры подтверждается креациологией, или наукой творчества. Креациология творит и осмысливает одновременно».
Философ Несказанного
Действительно, Неизреченное, Несказанное – ключ к пониманию мировоззрения Микушевича. Владимир Борисович однажды заметил, что определяет себя в качестве «мистериалиста». Но, думаю, он бы не возражал, если бы про него сказали, что он «философ Несказанного». «Когда некоторые лингвисты говорят, например, что языки первобытных народов являются примитивными, то они этих языков просто не понимают. Ведь в языке главное не сказанное, а несказанное", – говорил Микушевич.
Будучи философом-тайнознатцем, он отлично понимал, что такое Несказанное. Рискну утверждать, что и выбор профессии, и круг интересов мыслителя сложился вследствие его причастности к божественным энергиям. Неслучайно учителю, когда он был ещё младенцем, явилась Богородица. Этому воспоминанию посвящено чудесное и очень нежное стихотворение.
НА ГРЯДКАХ РОЗОВЫХ. Из сонетов к Пречистой ДевеВладимир Микушевич (5.01.1993)На грядках розовых покров растаял снежныйИ заиграл поток, неудержим, но мал,А я на воздухе спеленутый лежалИ в ясных небесах увидел образ нежный.К Тебе, Пречистая, Младенец безмятежныйПрильнул, хотя в Твоих объятьях угрожалЕму безжалостный укус гвоздиных жалИ крест заоблачный, целебно неизбежный.Откуда мог я знать, что впереди войнаИ непроглядный мрак нетопленного дома,Который в страшные построен времена?Но мне с тех пор Твоя улыбка так знакома,Что нищета, болезнь, смертельная истома,И вечная с Тобой погибель не страшна.
Вероятно, что именно эта связь с тонким миром определила призвание Микушевича (переводчик, поэт, писатель, мыслитель) и привела к освоению языков, способность человека говорить на которых он считал божественным даром, а также сподвигла к изучению философии, тайных учений, мифов и сказаний народов мира, памятников литературы древних цивилизаций, и, конечно, корпусу легенд о Священном Граале.
Микушевич переводил поэтов Чаши в течение всей своей жизни (в числе прочего, им был частично осуществлён перевод романа Вольфрама фон Эшенбаха «Парсифаль» – по утверждению мыслителя, подлинного источника сведений о Граале – и роман «Титурель», посвящённый судьбам избранного рода). И в этой связи о его отношении к Чаше и Крови следует сказать отдельно.
Хранитель Чаши
«Орден тамплиеров подвергся жестоким преследованиям по обвинению в ереси. Очевидно, они были хранителями какой-то тайны, и эта тайна связана с кровью. Распространено предположение, что тамплиеры обрели Грааль, вверенный их попечению. В легендарно-документальном романе Вольфрама фон Эшенбаха (XIII век) Грааль вверен Титурелю, Титурель основывает орден его хранителей (прежде всего это родичи Титуреля), и вошедшие в этот орден зовутся рыцарями храма. Есть разные этимологии слова «Грааль», но словосочетание «Святой Грааль» вероятнее всего восходит к французскому Sang Real, то есть «царская кровь» или «кровь истинная». Напрашивается предположение, что речь идет о крови Христа, о крови Нового Завета, но кровь Христа — это также человеческая кровь, а кровь течет не только в жилах человека, это универсальная стихия всего живого, соприкасающаяся со стихиями космоса», – говорил Микушевич.
Грааль же, по убеждению мыслителя уже давно спрятан в России. И именно желание завладеть этой величайшей святыней толкает Запад на ведение войн против нашей страны: в частности, в стремлении заполучить Чашу нас пытались завоевать Гитлер и Наполеон.
...Анатолий вздрогнул. Софья Смарагдовна слегка понизила голос:«Око Денницы», новелла из книги «Будущий год»— После Вознесения Христова Чаша была перенесена в Европу, в древнюю Бретань, где Чаша получила наименование Грааль, что означает одновременно Сосуд, Книга и Кровь, которой пишется истинная Книга. И действительно, ангелы написали нечто на Чаше, почему она и называется также «Изумрудная Скрижаль». Эту ангельскую надпись можно перевести так: «Наверху, как внизу, внизу, как наверху — Чудо Единого». В Европе хранителями Чаши стали рыцари Храма, тамплиеры, а когда на них начались гонения, они спрятали Чашу в гробнице в предгорьях Пиренеев. В 17-м веке эту гробницу и эту местность изобразил Никола Пуссен на своей картине «Аркадские пастухи». На гробнице прочитывается латинская надпись: «Et in Arcadia ego» — «И в Аркадии я», что означает все то же Чудо Единого. Когда Пуссен писал свою картину, Чаша еще находилась в гробнице, но когда началась французская революция, граф Сен-Жермеи увез ее в Россию, чтобы Чашей не завладели дьявольские силы. Наполеон пошел на Россию войной, чтобы завладеть Чашей Грааля, но пепел сгоревшей Москвы скрыл ее. Знаете ли вы, что в Москве и теперь еще есть улица Изумрудная? На этой улице еще сохранился дом, где когда-то прятали Чашу.Настал двадцатый век, последний век второго христианского тысячелетия и, быть может, последний век человечества, если дьяволу удастся вернуть себе свой третий глаз. Хранителями Грааля стали в двадцатом веке новые тамплиеры. Их объединил Московский Художественный театр. Теперь вы понимаете, почему три сестры взывают: «В Москву, в Москву»? Но твердыня Монсальвата, обитель Грааля, уже переместилась к тому времени в этот поселок, на эту дачу. Вот почему здесь бывали Чехов, Горький, Шаляпин. Они черпали творческие силы из Чаши Грааля. Все они собирались на этой даче и, откровенно говоря, собираются теперь.Анатолия била мелкая дрожь. Софья Смарагдовна налила ему горячего чаю:— После октябрьского переворота по всей России начались обыски и аресты. Они были не столь бессмысленны: искали Чашу. Аресты усилились в тридцать седьмом, когда возникла опасность, что Чашей завладеет Гитлер. Гитлер нарушил мирный договор и начал войну из-за Чаши. Немецкая разведка примерно знала, где Чаша находится. Посмотрите, сколько зажигательных бомб упало вокруг этой дачи. Рассчитывали, что дача загорится, оттуда первым делом вынесут Чашу и она попадет в нужные руки. Но дача не горела, а когда приходили арестовывать ее хозяев, они исчезали, но исчезали и те, кто за ними пришел...
Однажды я с друзьями оказалась в гостях у одного известного писателя и знатока восточных религий (который, по словам учителя, принёс немало вреда своей деятельностью). Узнав, что я ученица Микушевича, писатель откровенно напрягся. По всему было видно, что он придерживается диаметрально противоположных взглядов, и считает мировоззрение Владимира Борисовича полной чепухой.
– И что, – вдруг насмешливо спросил он меня в ходе беседы, – Микушевич действительно ходит в церковь?
– Да, ходит, – отвечала я, удивившись такому вопросу.
И где же он нашёл такую церковь, в которую можно ходить? – продолжал писатель своё язвительное нападение.
Он начинал мне надоедать.
– А знаете, – оборвала его я, – Владимир Борисович считает, что в церковь надо не ходить, а входить. Причём, единожды.
Знаток восточных религий замолчал. Он явно не знал, как продолжать разговор.
– Понятно…, – промямлил знаток, обдумывая дальнейшую тактику нападения. – И что же, – вновь воодушевился он, – Микушевич уже нашёл Грааль или ещё ищет?
Зря он это спросил.
– Так давно! – радостно воскликнула я. – Грааль стоит у Микушевича в серванте на даче в Малаховке.
– Да-да, это так! Я видел собственными глазами, – с готовностью подтвердил находившийся рядом и следивший за ходом нашего диалога известный журналист и писатель.
Владимир Борисович пришёл в восторг от этой истории. Собираясь в его гостеприимном доме в Малаховке, мы ещё не раз обсуждали хранившийся у него в серванте Грааль. Кстати, одна из лучших композиций группы ЗЛЫДОТА – «Час чаши» – была написана Олегом Фоминым на стихи нашего учителя (https://artagrad.ru/articles/414/zlydota-cas-casi).
А Грааль действительно стоял в серванте на даче Микушевича. Просто его не всем дано было увидеть. Грааль находит лишь тот, у кого Грааль в крови, говорил Микушевич.
Философ-тайнознатец
У меня всегда было чёткое понимание, что творчество учителя и все его изыскания были связаны не с поиском Истины, а со стремлением с ней оставаться – пребывать с давно обретённой Истиной, которую он, судя по всему, не постигал, а знал с рождения.
Владимир Борисович рассказывал, что не представляет себе жизни отдельно от поэзии и что у него такое ощущение, что увлечение ею началось ещё до его появления на свет. А стало быть, великие поэты и писатели, которых он переводил, были выбраны им не случайно: учитель знал посвящённых в тайны мироздания. При этом, без сомнения, не только они прошли через Микушевича («Кретьен, Петрарка, Свифт, Бодлер Верлен, Георге, Новалис, Гёльдерлин прошли через меня» – стихотворение «Памятник»), но и Микушевич прошёл через них.
Неспроста тема мистического сверхчувственного проникновения («тат твам аси» или по-русски «то ты еси») пронизывает творчество мыслителя. «Суть райского блаженства, по Данте, – писал Микушевич в своей книге «Креациология, или наука творчества», – в трёх словах: t'inmii, m'intuassi, s'inluia (Par. IX, 73-81); ты вменяиваешься, я втебяиваюсь, ты внегоиваешься (вбогиваешься). Это дантовские неологизмы, вернее, этернологизмы: они были всегда, но только Данте их озвучил».
На том свете на вопрос «Кто ты?» следует ответить: «Я – это ты», говорил Микушевич. На земле же приблизиться же к райскому блаженству помогает творчество: путём одновременного объединения временных моментов оно формирует подлинную историю и «освобождает» человека от времени, то есть от разрушения во времени. Это в своём роде дарует ощущение целостности, однако нельзя забывать, что целостность в отношении бытия представляет собой единство различного, замечал мыслитель.
То же самое касается истины. Истина, говорил Микушевич, – это то, на что можно посмотреть с разных точек зрения. А потому он обнаруживал её не только в легендах о Граале, трудах прославленных философов и прозрениях величайших поэтов, мистиков и богословов (Григор Нарекаци, Дионисий Ареопагит, Скот Ориугена, Якоб Бёме, Готфрид Бенн, Новалис, Петрарка, Данте, Гёте, Пушкин, Блок, Клюев, Сковорода, Голосовкер, Лосев – вот лишь малый список любимых авторов Микушевича), но и в, казалось бы, незамысловатой на первый взгляд мудрости русского народа, понимание которой на самом деле доступно далеко не всем. К слову, самым совершенным поэтическим жанром учитель считал русские загадки (такие как «Чёрная корова весь мир поборола», «Белая кошка лезет в окошко», «Стадо несчитано, пастух рогатый»), которые недаром легли в основу поэзии последних лет его жизни, когда он увлёкся написанием хокку.
Вообще, интерес Микушевича (лауреата премии принца Ангальтского, герцога Саксонского за распространение немецкой культуры в России) к русскому фольклору для многих может стать открытием. То, что мыслитель увлекался этнографией, блестяще знал мифы и сказания народов мира, хорошо известно (в частности, в Институте журналистики и литературного творчества им было прочитано немало лекций на эту тему). Но о том, что он с большим вниманием изучал дохристианские русские традиции, известно далеко не всем.
Кстати, общепринятое понимание термина «язычество» учитель считал неправильным. В это слово вкладывают неверный смысл, говорил он: народ – это и есть «язык» («И назовёт меня всяк сущий в ней язык» – А.С. Пушкин), а исходя из этого, «язычество» – это вера народа. Поэтому называть дохристианскую веру Руси (которая, к тому же, имела очень много христианских черт) «язычеством», подразумевая под этим идолопоклонство, некорректно.
К матери-земли у Микушевича было особое благоговейное отношение. Мощная созидательная сила земли и её мистический союз с человеком блестяще описаны им в статье «Земля-именинница» – одной из глав книги «Умная сила» (https://artagrad.ru/articles/413/vladimir-mikusevic-zemlya-imeninnica).
Земля не только сама участвует в сотворении мира, напоминает мыслитель, ссылаясь на Книгу Бытия (“И сказал Бог: да произведёт земля душу живую по роду её, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так” (Быт. 1, 24), она служит источником силы (согласно «Теогонии» Гесиода) и даже спасения для человека.
«Кто такая родная земля, – пишет Микушевич в «Земле-имениннице», – открывается в романе Достоевского «Бесы», и возвещает это хромоножка Марья Тимофеевна: “…Богородица – великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость”». И далее: «Неслучайно в пантеоне богов, установленном князем Владимиром в Киеве, а потом разрушенном им же после крещения, не было матери сырой земли, так как она и без того преобладала в дохристианской религии Руси».
Возвращение к «старой истине язычества, к реализму матери-земли» (по Н. Бердяеву) жизненная необходимость, полагал Микушевич, указывая, что святость Древней Руси – в полном и почти буквальном отождествлении государства и земли, что отражено в памятниках древнерусской литературы. Неслучайно мать-земля, сакральный правитель и сакральная власть связаны теснейшими узами. «Венчание на Царство на Руси изначально означало венчание с землёй, – писал Микушевич. – Именно в этом смысле ответил Николай II на вопрос переписи 1897 г., когда написал, что он “Хозяин земли русской”. По старинной традиции слово «хозяин» означало не «владелец» и не «распорядитель», а супруг».
Бесспорно, как русский человек и русский мыслитель, посвящённый в тайны мироздания, Владимир Борисович Микушевич чувствовал энергию земли. «Земля согласна принадлежать лишь тому, кто сам ей принадлежит, – писал он. – Бессмысленно обрабатывать землю, не понимая, что это она обрабатывает, одаривает нас».
СОЛНЦЕЛАД. Из ЛогосутрыВладимир Микушевич (10.03.2024)ЯрилаЯ лираИл РаИли солнце
МОЛИТВА БЛАЖЕННОГОВладимир Микушевич (19.12.2022, госпиталь)Даждь Бог нам дождь, чтобы не было засухи,Чтобы узреть у Христа из-за пазухи,Как в наступающий век золотойГрешная Русь остаётся святой.
СОКИ ЯЗЫЧЕСТВАИз книги «Так говорил Чудотворцев»Когда питательные соки язычества иссякают, христианство костенеет… или само превращается в язычество.
Микушевичу было очень дорого русское своеобразие. Неслучайно любимым художником учителя был Михаил Нестеров, а любимой иконой – Троица Андрея Рублёва.
«”Троицу” Андрея Рублёва никогда не воспримет тот, кто полагает, будто видит Её. Троица не видится, а созерцается. “Видеть” и “созерцать” в данном случае не синонимы, а слова с противоположным значением. Гармоническое согласие очертаний ритмично, оно напоминает музыку; может быть, в музыке сфер Пифагора угадывалось отдалённое чаянье этой музыки, но у Андрея Рублёва она явно звучит духу, а не слуху, ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, но и нет ничего явного, что не осталось бы тайным. Единство очертаний и цветов не живописует Троицу, а возвещает Её. Лишь в молчальничестве сокровенно присутствует Откровение единства Слова и Лика, и потому православное молчальничество – вещая форма Слова», – писал Микушевич в статье «Урожай Преображения» (https://stihi.ru/2011/08/19/8326).
Что же касается миссии нашей страны, то Владимир Борисович считал, что «Россия – царство, и трагедия России в том, что истинный царь её неведом или невидим".
Вы на пути
Как-то раз старообрядцы, несмотря на то что Микушевич не принадлежал к древлеправославной церкви, впустили его в свой храм, выказав почтение: «Вы на пути». Он действительно был на пути. Мудрец, который не «вписывается» в жизнь, не подстраивается под жизненные обстоятельства. Поэт, который идёт прямым путём, достойно неся свой дар.
«Великие мудрецы как правило всегда являются величайшими поэтами и пророками. Изначальное же назначение поэзии — исцелять. Именно это означает катарсис, очищение по Аристотелю. Исцеляет угаданное и накликанное, утраченное в повседневности единство всего живого во все времена», – говорил Владимир Микушевич.
Микушевич, собственно, и был таким величайшим поэтом, мудрецом, сопричастным вечности.
ФИЛОСОФИЧЕСКИЙ СОНЕТ графа Сен-Жерменаперевод Владимира Микушевича с французскогоПытался я постичь природу в каждой сфере;Далась мне грамота вселенной в основном;Свою явило мощь мне золото в пещере:Зачатье тайное в броженье неземном.Я видел, как путем родительских артерийСтремится в мир душа; я понял, что зерномЗовется гранула в земле, но и в кратереОна, готовая стать хлебом и вином.Бог из Ничто творил. Ничто – первооснова.Обследовал я мир и убедился снова:Опора для всего Ничто: оно одно.Гармонию миров как ропотом нарушу?Я взвесил Вечного, мою призвал Он душу,Я верую, но знать мне больше не дано.
***
Остались ли у Владимира Микушевича ученики, способные осмыслить столь грандиозное наследие?
Говорят, гениям не суждено иметь ярких последователей – они настолько опережают своё время, что сами того не желая, становятся одиночками, приговорившими себя к творческой изоляции. У Владимира Борисовича Микушевича, к счастью, было много учеников. Тем не менее, в полной мере постичь всю глубину мудрости учителя и стать его преемником, наверное, пока не удалось никому. Не оправдал надежд и самый талантливый из его учеников – Олег Фомин, не реализовав в полной мере своего таланта, о чём Владимир Борисович очень сожалел («Олег мол бы взять от меня гораздо больше»).
Осмысление наследия гениального мыслителя, великолепного переводчика и непревзойдённого поэта ещё только предстоит будущим поколениям. Очень хочется надеяться, что появится исследователь, способный осилить творчество этого блестящего представителя русской культуры. Говоря словами Андрея Боташова (учитель предпочитал писать фамилию легендарного алхимика, мистика и основателя города Гусь-Железный через «о»), «Всё тому, “кто одолеет”».
Владимир Микушевич: "Боташовщина" https://artagrad.ru/articles/337/vladimir-mikusevic-botasovshhina;
ЗЛЫДОТА: фолк-опера "Баташов и злыдота": https://artagrad.ru/articles/335/zlydota-folk-opera-batasov-i-zlydota
Мария Лушникова













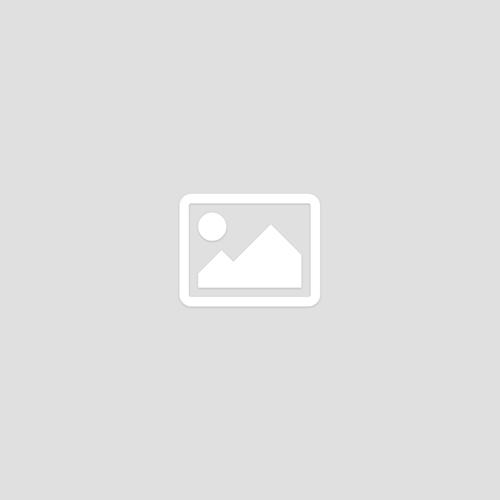





Комментарии (0)