Метафизика света
В мире есть регионы, где атеистические исследователи видят особенный религиозный "синкретизм" (на самом же деле его нет и никакой это не синкретизм). К их числу относятся и Албания, и Палестина, и Ливан, и Сирия, например. Бекташизм (распространённый ранее по всей Анатолии, Египту и Балканам, а ныне сосредоточенный только в Албании – но не только на тоскском юге, как обычно думают, а местами и на гегском севере, как тут под Круей) сам по себе действительно может показаться синкретичной смесью православия и ислама, но нужно отличать от этого учения реальные его практики. Реальные практики же на местах заключались в том, что каждый албанец знал свою конфессию: православный или католик, суннит или бекташ. Конфессии никто не путал. Однако святые места, святые праздники и святые люди – эта замечательная триада – были во многом общими для всех четырех конфессий.
И это не только специфика нескольких стран и регионов – аналогичные примеры мы можем найти и в центре России – просто в особых фронтирных регионах вроде Албании (с нетерпением жду выхода книги Даши Дугиной "Философия фронтира", там наверняка есть тезисы в тему) это совместное тройное почитание бросается в глаза ярче. Бросается оно и в Иерусалиме, например: никто же не спорит с тем, что это священный город нескольких традиций. Точно так же мнимая "гробница" (кенотаф) Сары Салтык-Бабы рядом с Круей (точнее, по другую сторону горы от города) чтится не только бекташами-шиитами, но и православными, и суннитами, а исцеление от святыни получали все паломники. И это даже несмотря на то, что сам Сары Салтык вообще никогда здесь не был.
Перед нами – трудная задача по религиозной феноменологии. Вооружась методами Элиаде, попробуем разрешить её и вывести некое общее правило для таких случаев.
Светоносная триада
Элиаде отмечает, что в центре любой религии стоят эпифании (теофании). Эпифании бывают трёх типов: пространства, времени, человека (любопытно, что в традиционном иудаизме это осознавалось и определялось как олам, шана и нефеш соответственно). Иными словами, главное отличие религиозного – сакральность, отделённость, святость – может проявляться либо в священных местах, либо в священные праздники (определённый момент в календаре), либо в лице священных, святых людей (и иных существ, от ангелов и элементалов до животных). Соответственно, Модерн как фундаментально богоборческий феномен боролся со всеми тремя проявлениями сакральных эпифаний: со святыми местами и реликвиями, с сакральными праздниками и ритуалами, с почитанием святых (как прижизненным, так и посмертным).
Отметим также, что любые эпифании связаны с метафизикой света. В западных традициях эта метафизика развивалась от мельчайших деталей начиная с Платона и Аристотеля через эпоху Отцов Церкви (один из носителей метафизики света, преп. Иоанн Лествичник) и заканчивая философами позднего средневековья, после чего (с XVII в.) она стала достоянием цепи "мистиков", противостоявших мейнстриму декартовско-ньютоновско-кантовского Модерна, в котором нет места для лестницы светоносных излучений сверху донизу, и прямо наследующему ему ризомному Постмодерну.
Так или иначе, любая полноценная духовная жизнь человека как интегрального целого возможна лишь при почитании этой светоносной триады: святые места, святые дни, святые люди. Как только мы это поймем, то уже не станем удивляться, почему у разных религий / традиций могут иметься общие предметы почитания из этой триады.
Когда атеистические или фундаменталистские исследователи (а атеизм и фундаментализм – это два проявления рационалистического Модерна) обвиняют традиционные религиозные практики в "синкретизме", в большинстве случаев это ложь. Настоящий синкретизм встречается, но не там, куда они смотрят. В том, что приверженцы разных религий могут почитать одно и то же священное место (от Иерусалима до мавзолея или иной гробницы святого либо же просто некий родник, рощу, или гору), один и тот же календарный праздник (к примеру, привязанные к весеннему равноденствию – вспомним, что даже езиды красят яйца на Новруз вместе с враждебными им христианами), одного и того же ангела или человека (это бывает реже, но бывает: Будда стал аватарой Вишну в индуизме и св. царевичем Иоасафом в православной традиции; первые турецкие суфии, включая и Салтык-Бабу, посылали своих учеников учиться к православным старцам – полувеком позже даже к свт. Григорию Паламе, а известные святые исцеляли людей любой религии, приходящих к ним – но никогда не безбожников). Всё это вроде бы известные факты, но скандалом является то, что в богословии почти никто толком не осмысливал их, за исключением умов уровня Флоренского и Элиаде.
Корень Традиции
Как атеистический, так и неоязыческий подход к культовым местам, праздникам, ритуалам и почитаемым людям либо ангелам грешат глубокой метафизической ошибочностью, не видя за феноменами их нуменальных, нуминозных корней. Даже в тех случаях, когда представители разных традиций чтят одну и ту же священную гробницу (толком неизвестно чью), священный родник, дерево или гору, когда они празднуют сходный календарный праздник, называя и объясняя его слегка по-разному – это не меняет суть вопроса, которая состоит в метафизике света.
Метафизика света, воспринимающая весь космос как иерархическую лестницу светоносных сияний, энергий, эпифаний, была единственно доминирующей в традиционном мире (за её пределами оказывались только запретные чёрные колдовские культы, связанные в том числе с матриархальным атомизмом). Всё священное светоносно, ибо от Единого (даже в том случае, когда апофатически этот свет иногда могли описывать как тьму, всегда отличая её от настоящей нижней тьмы).
Вот почему так важна иконография святых, их изображения как окна между разными уровнями бытия (см. Флоренского). Вот почему без всякого внешнего синкретизма и на Балканах, и в Леванте, и не только христиане и мусульмане чтят "иконы" в священных местах друг друга. В Круе православные исцеляются в бекташийском мавзолее (тюрбе) Сары Салтык-Бабы, где шиитские изображения сияющего старца висят рядом с православной иконой, например, св. Косьмы Этолийского – святого 18 века, который при жизни был особенно любим Али-пашой Янинским, который чтил его дар предсказаний (св. Косьма за 150 лет точно указал на дом, в котором родится Энвер Ходжа как предтеча антихриста). В Сирии шииты из Хезболлы первыми освобождали православные и монофизитские храмы, отдавая воинскую честь иконам Богоматери и Христа. В Палестине православные и мусульмане ходят на зиярат к одним и тем же древним гробницам, которые приписываются то святым, то шейхам, но на деле являются обычно неолитическими. Так живёт Традиция, и в той же Европе она жила не менее насыщенно и интенсивно, пока не пришёл Модерн.
Мы около года назад уже писали, что начинать надо с вопроса о том, что такое религия как таковая, par excellence, что этот вопрос первичнее обоснований отдельных религий, и отмечали важнейший вклад Флоренского и других классиков (Элиаде, Льюиса, незабвенного де Местра) в постановку такого вопроса. С тех пор прошло сто лет, и, к счастью, мир пополнился многими другими ценными трудами по сущности религии. В разных вариациях это всегда ритуал / культ, а в центре его – жертвоприношение. Миф всегда выстраивается уже вокруг конкретного ритуала и культа; миф есть рассказ по мотивам ритуала. Мир держится исключительно жертвоприношением и стоит на жертвоприношении. Это осознавали все народы всех эпох, в этом и заключается живое сердце Традиции – то есть того, что связывает падший мир с Его источником – Богом.
Там, где нет жертвоприношения как центра, там, где умаляется ритуал и культ, там нет религии. Поэтому все этапы деградации западной цивилизации – от папских реформ VIII и XI вв. к протестантской Реформации с прогрессирующим отказом от ритуала, культа и реальности Евхаристической Жертвы суть этапы отпадения от Религии как таковой (с параллелями в исламском мире в лице салафизма/ваххабизма, в восточноазиатском мире в лице ряда неоиндуистских и буддийских течений). От Лютера, Генриха VIII, Кальвина, Кромвеля, уничтожавших Религию явно и открыто, и иезуитских "контрреформаторов", делавших то же самое лукаво и скрытно, нить апостасии пролегала через Декарта и Юма к Канту как пиковой точке "глубин сатанинских". Кант – это сумма, резюме всего антихристианского и антирелигиозного импульса (язык не поворачивается назвать его философским – он мизософский и ненавидит Софию, как ненавидел Её и Кант, на почве чего был анафематствован Гаманом). Корни нью-эйджа лежат в Канте, точно так же как корни глобализма как такового. Ни один протестантский теолог XVIII века не отрицал не только Христа и Церковь, но и саму идею ритуалов, чудес, метафизики света и святости, наконец, идею Жертвы столь последовательно и продуманно, как это делал Кант. Уместна анаграмма "Кант – танк". Танк, гусеницами растаптывающий малейшие признаки даже не только христианства (Кант полностью отрицал христианство), но и любой религии как таковой.
В этой связи напомним одну уместную цитату:
Смещение фокуса с произведения, продиктованного Богом, на профанную личность ("индивидуальность") того, кому оно продиктовано, с постепенной утратой смысла трансцендентного присутствия, то есть заинтересованности в том, а Богом ли продиктовано данное произведение, является не только одним из "побочных явлений" эпохи "Просвещения" и "гуманизма", как хотелось бы думать ее апологетам, но сутью и сердцем этого самого "Просвещения".Глеб Бутузов. Традиция и западная музыкальная культура
Начиная со средневековья, постепенно нарастало забвение о сущности религии как таковой. Кант – кульминация этого забвения, во многом опередившая своё время: в Канте in nuce, в свёрнутом виде уже содержалась программа того сатанинского глобализма с "вечным миром", "моральным учением" и полным отрицанием телесности, точнее, софийности тела, без которой нет ни жертвы, ни культа. В этом Кант был куда страшнее и последовательнее всяких просветительских тупиц типа Кондорсе.
Поразительно, насколько системно по всем параметрам друг другу противостояли Гаман и Кант – два друга юности, ставшие врагами метафизическими и потому уже личными. На самом деле, нет в нашем софийном традиционализме ничего, чего бы in nuce уже не было у Гамана (и тем паче у его наследников Гемстергейса и незабвенного Новалиса).
Однако не менее поразительно, что во французскую мысль ворвался незабвенный де Местр, поставивший метафизику жертвоприношения и круговорота крови в природе в центр вообще всего: космоса, государства, права, войны, человека...Де Местр также опередил уровень понимания своих современников, вернувшись к здравым и вечным пропорциям понимания искупительного и освобождающего жертвоприношения. Нет жизни без жертвы – это то, чего не мог принять совершенно бесплотный, ненавидевший телесность Кант.
Жертвой держится мир. Жуйте же плоть Гриба.Юрий Стефанов














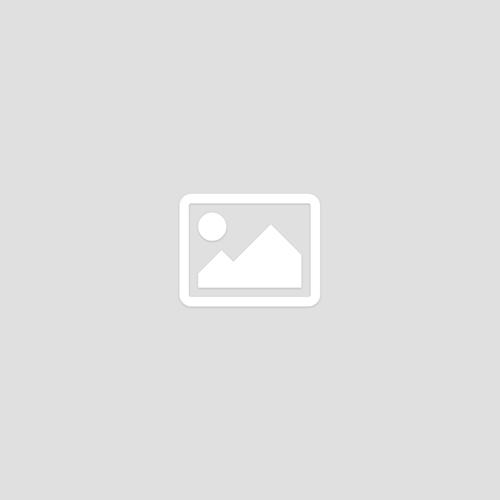





Комментарии (0)