Толкиен: певец русского языка
Ровно 50 лет назад круги этого мира покинул Толкиен. Хотелось бы осветить для наших читателей несколько малоизвестных сюжетов о Профессоре.
Помню, как мы отмечали эту дату 20 лет назад, и сейчас не верится, как сильно изменился мир и как много новых книг и трудов Профессора стало доступно, на какие новые горизонты изучения его творчества мы вышли. И каждый новый год подтверждает ценность неиссякаемых источников Профессора в области философии языка, философии истории, философии техники, философии искусства, тринитарного богословия, сравнительного религиоведения, фундаментальной антропологии, христианской психологии...
Снова и снова приходится встречаться с Толкиеном "у камня и кроны", даже если это происходит реже, чем хотелось бы. We meten so selden by stok other ston, говоря словами из "Сэра Гавейна и Зелёного Рыцаря" – фундаментальной для Традиции поэмы, которую ввёл в оборот современной культуры именно он...
Храбрец из Калининградской области
Хотелось бы осветить для наших читателей несколько совсем малоизвестных сюжетов о Толкиене. И начнем мы с его происхождения.
Общеизвестно, что он случайно родился в Южной Африке и до четырёх лет жил на руках у воспитателя-негра, что мать была из коренных англичан, а отец – из немецкого рода. Но каких именно немцев?
Сам Толкиен верил семейной легенде о том, что якобы один из Гогенцоллернов за храбрость в битве с турками при Вене в 1529 г. получил от императора добавку Tollkühn "безрассудно отважный" в качестве фамилии. Происхождение от саксонских Гогенцоллернов – это очень почетно, но, увы, неправда. Когда за полгода до смерти Толкиену сказали правду о происхождении его рода, он отказался в это поверить. Отказывались долгое время и историки. Лишь исследования последних лет обнаружили десятки документов и свидетельств рода Толкиенов с 14 по 18 века, и теперь уже неоспоримо: они были пруссами из нынешней Калининградской области.
Древние пруссы включали десяток субэтносов, которые обычно называют "племенами". Одним из них были натанги. В их области после немецкого завоевания распространилось ремесло переводчика, по-прусски толк (это заимствование из славянского в прусский язык). Неудивительно, что Тевтонский орден назначал таких людей сельскими старостами – шульцами/солтысами. За 14-16 века возникло четыре деревни таких людей с названием Толккайм (кайм – это по-прусски "деревня", слово, однокоренное русскому "семья"). Позже две из этих деревень в 17-18 веках онемечили свои названия как Толксдорф, а поляки–переселенцы из Мазовии называли их "ТолкИны". Сейчас три из четырёх этих деревень находятся в районе калининградских городов Мамоново, Корнево и Славское, четвёртая же под названием Толкины с 1945 г. отошла к Польше и находится в 15-20 км к югу от нашей границы.
Род старост-переводчиков уже к 16 веку имел постоянную фамилию Tolkien, которую распространили и на других крестьян деревень Толккайм. К 18 веку, после вымирания прусского языка, фамилию в документах начали иногда онемечивать как Tollkühn – безрассудно храбрый. Часть из них в 18 веке поселилась в Гданьске. В 1772 г. по первому разделу Польши Гданьск отошёл к Пруссии, после чего часть этой семьи эмигрировала в поисках заработков в Англию. Там они использовали оба написания фамилии, Tollkühn и Tolkien, пока в 1780-е годы прадед писателя не выбрал только второе.
Восточная Пруссия была родиной многих немцев или онемеченных балтов, сыгравших огромную роль в истории: Эйлер, Кант, Гаман, Гердер... Теперь мы знаем, что и рода Толкиенов тоже, причём искусство перевода и владения языками было присуще им изначально и действительно в конечном счёте происходит от славянского глагола "толковать".
«Эй, ухнем!»
Теперь поговорим о малоизвестных фактах, связывающих Толкиена с русской культурой. Нужно учитывать контекст эпохи: с 1890-х годов русофильские настроения в английском обществе постоянно нарастали, хотя и не могли никак влиять на политику британской атлантистской элиты, которая оставалась фундаментально антироссийской даже в период Антанты. Но вот общество изменилось очень сильно, и произведения русской культуры в Британии начала ХХ века воспринимались на ура, Первая мировая война усилила бум хвалебных книг о России. Исключительную роль долгое время играл такой русофил и лоббист Православия и традиционных ценностей, как Биркбек, а после его старения и смерти на первый план вышли книги его духовного продолжателя Стивена Грэма. Продолжала свою лоббистскую и агентурную деятельность на Россию в Лондоне Ольга Новикова, а также тамошний русский священник о. Смирнов. Знамением эпохи и её концом стала встреча трёх великих рыцарей Традиции: Николая Гумилёва, Честертона и Йейтса – в 1917 году.
Теперь посмотрим, как реагировал двадцатилетний Толкиен, попав в эту атмосферу растущего культурного русофильства (глухой стеной отдалённого от британского атлантистского истеблишмента). Именно между 1913 и 1917 годами он регулярно учил русский язык (наряду с сербским и польским), читал Достоевского, занимался славянскими этимологиями английских слов.
Первым сохранившимся свидетельством такого рода является рисунок Толкиена 1913 г., на котором изображена лодка с веслами и русская надпись "Эй, ухнем!" Именно эта песня была тогда популярна у оксфордских студентов-гребцов. Поразительно, но этот рисунок, описанный архивистами, до сих пор лежит неопубликованным по политическим соображениям...
Русофильство в Европе начала ХХ века делилось на либеральное (эти возились с кадетами и эсерами и ненавидели традиционную Россию) и консервативное (эти восхваляли Россию как оплот традиционных ценностей, патриархального уклада и православной святости). Ко второму типу относилась, например, норвежская книга Кнута Гамсуна о его путешествии из Петербурга на Кавказ, а также многочисленные очерки паломничеств Стивена Грэма (1884-1975), который сам уверовал в святость Руси и распространял русское православие везде, где только мог, и труд его коллеги Артура Рэнсома (1884-1967), который в 1914 году адаптировал русские сказки для английских детей. Это издание оказалось очень высококачественным и востребованным, за сто лет переиздавалось пять раз. На русских сказках в обработке Рэнсома выросли и дети Толкиена, а в 1937 году два писателя наконец-то познакомились лично. Возможно, это одна из причин, почему в "Космической трилогии" Льюиса главный герой, наделённый некоторыми чертами Толкиена, носит имя Рэнсом.
Этимология медведя и волка
Пик изучения Толкиеном русского языка пришёлся на лечение в военном госпитале летом 1918 года. Далее уже началась постоянная работа в университетах, стало не до того, но даже в 1953 г. Профессор вспоминал, что славянские языки произвели на него незабываемое впечатление своей структурой. Вместе с тем на вопрос, что конкретно он взял в свои языковые построения из русского и славянских, ответ таков: пять элементов. Рассмотрим по порядку.
1. В ранней поэме о Куллерво (1915 г.) действие происходит отчасти в Карелии и на Руси, которая там называется Кеменумэ. В самой поэме это переводится как Великая Земля, но вообще происходит от названия Кеми, то есть буквально Кемская волость.
Если уж копать этимологию сильно вглубь, то названия с корнем Кем/Хем относятся к древнейшим слоям гидронимии Евразии, предполагают даже, что к мезолитическим, связывая здесь беломорскую Кемь и верховья Енисея (Хем). Получается, что Россия-Евразия действительно с полным на то основанием может зваться Великой землёй Кеменумэ. (Я бы обыграл тут и слова Розанова про Древний Египет, самоназванием которого было Кем: "Египет после Руси первый по вере".)
2. Конечно, это имя Радагаста – западнославянского божества, которое в легендариуме было присвоено одному из Майар, то есть низших ангелов. Но почему именно так? Потому что, по замыслу Толкиена, общее наречие (основной язык людей Средиземья) условно передаётся английским, более северные диалекты – древнеанглийским, а ещё более северные – славянским (что означало бы оценку степени отдалённости их от общего наречия – такой же, как славянских от германских).
3. Поэтому для символизации северных наречий были выбраны такие слова, как Радагаст и Медвед. Первоначально медведь-оборотень, известный как Беорн, назывался у Толкиена Медведом. Потом он экспериментировал с этим корнем в разных языках: Мад-Ит, Мегл-Ит и т.д. Эти слова, впрочем, остались на стадии черновиков.
Зато дошли до окончательной редакции "варяги" из Кханда. Но Кханд символизирует Индию, а варяги из Кханда – это, по описанию, скорее индийцы.
И здесь необходимо сделать отступление об этимологии медведя и волка.
Индоевропейские слова для волка и медведя изначально образованы по одной модели. Wlkwos – раздирающий, опасный (это слово означает волка во всех ИЕ языках, кроме анатолийских, где оно обозначало льва). H2rtkos – разрушающий (отсюда греческое арктос, оско-умбрское ursus, заимствованное в латынь, и многое другое).
Толкиен берёт для первоначального квенья ulku – волк (некоторые считают это славянизмом, но нет, это просто индоевропеизм), медведь (ИЕ арктос) же заменен в раннем квенья на Медвед / Мегл-Ит, в позднем на Морко (ассоциация с чёрным цветом, mor + индоевропейский же суффикс для животных -к), в общем наречии на германское Беорн.
Вообще из всех животных имя медведя, пусть даже изначально всего лишь прилагательное с прозрачным смыслом "арктос", чаще остальных табуировалось и заменялось новообразованиями. В славянском сначала на "бер" (прямо как в германском, отсюда осталось слово берлога), потом уже на "медведь"; в балтском – на *tlokis "топчущий, толкающий, раздирающий" (тот же корень в русском "толкать"), отсюда литовское Локис и латышские Лацис (= рус. Медведев), что вызывает уже определённые ассоциации из истории ХХ века.
Кстати, хотя медведь "арктос" в литовском и был заменён на "локис", но древний индоевропейский корень остался в слове "ирштва" – берлога.
Он же остался в албанском названии медведя – ar (в современном языке искажено в ari из-за гиперкоррекции). Медведица же, соответственно, аруша.
Вообще прелесть балканизмов в том, что в них образуются гибриды корней с суффиксами из разных языков. Население Македонии в особенности говорило на дикой смеси славянского, албанского, греческого, арумынского и турецкого. Отсюда такие дивные склейки с славянскими суффиксами -уша и -ица, как психица (растение души), бороница (черника), гомарица (ослица, от семитского и турецкого гомар – осëл), аруша (медведица, от ар) и совершенно убойное зонюша (госпожа, при Зоти – господин, Бог).
Без всяких шуток, я в Албании заходил в магазин и говорил, с трудом сдерживая смех: "Зонюша, ме еп чай ме бороница..." (Госпожа, дай мне чаю с черникой – они реально продают такой чай...).
Это вы ещё не видели, что происходит на уроках эрзянского языка, когда дети чуть ли не на первом занятии должны назвать тему "Я и моя семья" – Мон ды монь кудораськем. А впереди у них песня про лук (чурька) и морковь (пурька), про собаку (киска) и кошку (псяка)...
4. Продолжаем список русских заимствований у Толкиена.
Если выше мы говорили о суффиксах -ица и -уша в албанском и греческом, то для раннего варианта квенья аналогом стал русский суффикс с окончанием -инка в уменьшительном значении (во времена “Словаря номов” и “Утраченных сказаний”). Patinka – “обувь, тапочки”, katinka – “свеча” (от kate – “светить”), kilinke – “колокольчик” (от kilin – “колокол”), kirinki – название небольших птиц в Нуменоре, herinke – “мисс, девушка” (от heri – “леди, правительница”), Atarinke – “Маленький отец” (материнское имя Куруфина).
5. Ещё одним русским заимствованием в языках Толкиена является velikе в “Словаре номов”. От русского слова “великий” в легендариуме появилось название топонима Haloisi Velike – “Великое Море”. Позже Толкиен убрал это слово из квенья, но оставил его адаптацию в синдарине в виде корня BEL-. Таким образом, знаменитые слова вроде “Белег” или “Белегаэр” (великое море) имеют русское происхождение.
Как искажали русский язык
Всё сказанное возвращает нас к вопросу о том, почему лингвистика, этимология, философия языка всегда оказываются в центре традиционалистских учений. Почему вопросам этимологии уделяли важнейшее значение Платон, Августин, Исидор, Ривароль, де Местр, Шлегель, Генон, Эвола, де Джорджио, Флоренский, Хайдеггер, Толкиен, Лосев?
Потому что язык – не только определяющее качество человека и дом бытия, но и то, что самим своим существованием опровергает все стадиальные теории прогресса в Модерне (будь то марксизм, венцом которого было позорно провалившееся "новое учение Марра о языке", или классический либерализм) и теории произвольного конструирования национальной и гендерной идентичности в неолиберализме Постмодерна (язык просто так не сконструируешь и не сменишь по своему желанию). Язык хранит в себе все слои исторических эпох, наследие предков, хранит в себе этимологии, восходящие иногда к явлениям многотысячней давности. Язык есть сама Традиция, отложившаяся слоями в именах, Традиция окаменевшая и в то же время способная ожить в любое время при её инвокации (вот почему традиционная философия языка всегда есть имяславие, она всегда основана на сакральном значении имён, которые нельзя называть где угодно и попусту).
Что могут сделать силы прогресса, революции, Модерна, деконструкции, Постмодерна против такого неустранимого оплота Традиции, как язык? Только гадить и портить всё, до чего дотянутся, засоряя язык заимствованиями, неологизмами, варваризмами. В частности – менять словарь, менять письменность, менять грамматику (прескриптивизм – воинствуюший инструмент Модерна по лингвоциду языков изнутри), наконец, коверкать слова так, чтобы их этимология стала непрозрачной, затемнилась.
Марксизм логически требует отрицания наследственности и пережитков прошлых формаций. Отсюда марксизм в языкознании неизбежно развивается в марризм, марксизм в психологии – в полное отрицание генетических способностей в школе Выготского, марксизм в биологии – в отрицание генетики и прожекты конструирования новых видов Мичурина, Лепешинской, Лысенко.
Современный постмодернистский неолиберализм – новая тотальная идеология Запада – требует ровно того же самого, только не в терминах перехода на более продвинутую стадию, а в терминах конструирования идентичности (этнической, расовой, гендерной, языковой, религиозной) по полному произволу и в отрыве от любых традиций (при этом если кто-то попытается играть в эту игру вдвоём и потребовать для себя право сохранить традиционную идентичность, то такое как раз строго запрещается хозяевами дискурса, как это подметил ещё сто лет назад Честертон в рассказе "Обращение анархиста").
В этом плане показательны насильственные реформы языка и письменности, которые всевозможные либералы, националисты, коммунисты проводили в новое и новейшее время. Они все были направлены на убийство Традиции в собственной стране (что предполагало, как отмечал уже Бенедикт Андерсон, отказ от сакральных языков книжности в пользу прескриптивистски изуродованных местных языков). Часто это предполагало не только всевозможные захламления языка заимствованиями и, наоборот, пуристскими неологизмами, или смену письменности (всегда директивно! нигде и никогда референдума на эту тему не проводили!), но и умышленное коверкание слов ради затемнения их этимологии.
Точечно от таких уродств пострадал и русский литературный язык, но, конечно, создание в ХХ веке украинской и белорусской мов – это ядерная бомба, сброшенная не то что на русскую, а на общеславянскую и общеиндоевропейскую лингвистику.
Осатанелые наци-реформаторы ввели фонетические написания вместо морфемно-этимологических, что привело к чудовищному коверканию на письме белорусских и малорусских слов. В первом случае были разрушены аканьем и цеканьем (которые есть во многих славянских языках, но никогда не отражаются на письме) даже индоевропейские морфемы многотысячелетней давности вроде "о", "про" и "ти", во втором – изуродованы международные имена (с превращением греческого и всемирного А в О, например), исковеркано иканьем на письме этимологические и позиционное О (но не во всех словах, отнюдь! уродцы-создатели укромовы при большевиках специально подбирали список приятных их сердцу слов, где иканье отменялось росчерком пера!).
В этих же рамках создатели "мов" (мова – это молва, презрительное название устного просторечия, не подлежащего фонетической записи, в противовес языку) растоптали общеславянские слова вроде "язык" (у всех славян – "язык", език, но укромова и белмова созданы киборгами нарочно), заменили их тучей полонизмов, германизмов, латинизмов самого варварского облика типа "дрот" и "дах" (то есть не мотивированных ничем и никак и директивно введённых вместо исконно славянских слов), наконец, извратили исконное диалектное членение славянского языка. Рассмотрим два наиболее кощунственных примера.
В малорусской речи, в том числе и в Галиции, есть только одно слово "мукá", оно же присутствует и в западнославянских. Но создатели укромовы с 1918 года искусственно взяли южнославянское, болгарское слово "брашно", переделали его под восточнославянский вид и получили "борошно". И теперь это считается "украинское слово", хотя его придумал Грушевский и Ко.
Ещё хуже обошлись с медведем. У всех славян это слово одинаково, этимология медведя прозрачная – медоед. Что же сделали творцы мовы в 1918 году при Скоропадском? Они поменяли местами слоги, чтобы лишить слово, дорогое сердцу каждого славянина, всякого смысла и превратить его в абракадабру "ведмідь". После чего в первом (!) украинском букваре для детей, изданном Скоропадским, обычный русский букварь был просто исковеркан перемещением картинки с медведем с буквы М на букву В! А это разрушает детскую психику, ибо язык без прозрачных этимологий и ясных словообразований воспитывает манкуртов, лишённых логического мышления.
Тех, кто в 1918 году придумал борошно и ведмідя, несомненно ждёт отдельный котёл в аду.
Мы уже разбирали во всех подробностях "Золотой ключ" Джорджа Макдональда как ключевое для антропологии традиционализма произведение: https://artagrad.ru/articles/311/metafizika-zolotogo-klyuca-dzordza-makdonalda
А недавно мне прислали относительно новое издание черновиков Толкиена, где среди прочего он писал и предисловие к "Золотому ключу". Это лишний раз подтверждает базовое значение Профессора для любых традиционалистских исследований, от космологии, теологии и метафизики зла и сатаны до философии языка и традиционной антропологии.














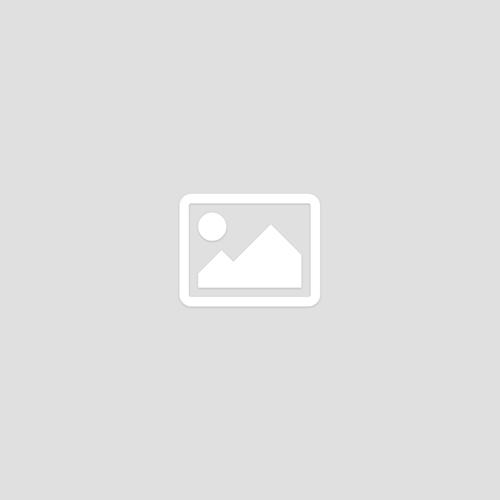





Комментарии (0)