Жреческая поэзия: символизм в стихотворениях Яшина
Вчера мне сказали: "Когда вы сойдете с гор..." Сразу всплыло в памяти бессмертное стихотворение Яшина о Шиве. Давайте не просто прочитаем, но глубоко проанализируем его.
Владыка Севера сошёл, танцуя, с гор –С вершин заоблачных, с орлиного плацдарма.Сияет в небесах его стальной ТопорИ стяг кровавый – благостная карма.Мы слышим гимны. Явью стали сны.И в будний день ворвался клич гиганта.В священной радости, в эротике войныПоследней истиной открылась миру тантра.Владыке Севера мы приготовим ТронИз вечных льдов, что сущее сковали.Вот наша плоть. И пусть напишет онНа нашей плоти страшные скрижали.К забытым алтарям мы возвратимся вновь,Сопутствует опять нам солнечная слава.Пусть пьёт из черепа дымящуюся кровьНаш гневный вождь, наш северный Бхайрава.
Начнём с выбора темы. Кажется, русскому поэту писать об Индии (забегая вперёд, скажем, что и об Иране) без болезни западного ориентализма и намеренной экзотизации а-ля Цертелев, Бунин или Брюсов можно только при серьёзном изучении темы, того же индуизма, и введении её в контекст привычных нам понятий. Поэтому Яшин сочетает Шиву с "плацдармом" и меняет индийский ритм стихосложения на ямб.
Как и в других его стихах, многие фразы умышленно короткие, рубленые: поэт говорит во властном, приказном тоне. Данное стихотворение тем самым вписывается в ряд других яшинских шедевров, как-то:
Зову опять божественный пожар.Фантом пластмассовый огнём великой страстиСожгут жрецы грядущих аватар.
Или особенно властное, о теозисе:
Мы дети солнц. И каждый – аватара.
Воспевание священных символов
Следующий важный момент поэзии Яшина – воспевание священных символов. Это – возврат к одной из первоначальных функций сакральной, жреческой поэзии. Вот почему Яшин воспевал то Крест, то Круг, то Молот, то Барабан, то Красное Знамя. Так и здесь: "стяг кровавый" – это прямая отсылка к двум статьям Эволы о красном знамени традиционализма. Новшество поэта в том, что он парадоксально сопрягает его с благостной кармой (пожалуй, мог бы и с дхармой).
Мы же вспомним, как он воспевал другие символы, например, в этих чеканных строках:
О молот ваджры, знак инициаций,Гиперборейский символ, стань для насСтальным штандартом будущих реакций!
Но вновь поэт творит чудесное превращение, и стальной молот Шивы из одного стихотворения оборачивается стальным топором (!) в другом. Несомненно, здесь сильна кшатрийская составляющая, заставляющая вспомнить о боевой шиваитской идеологии Нетаджи, но здесь же Яшин даёт нам аллюзию на центральное значение топора в культуре русской (Биллингтон "Икона и топор" – описание русской культуры двумя словами), равно как в культурах средиземноморской (критский лабрис) и ближневосточной христианской ("уже и секира при корне дерев лежит"). "Имя её – топор", – как говорил Дугин.
Диапазон символизма в поэзии Яшина очень широк. Это не только крест (в стихах условно христианского периода) и аналоги креста (в дохристианских стихах), солнечный круг, молот и топор, но, например, и римская связка молний в когтях орла, прямо отождествляемая поэтом с индийской ваджрой ("Сплетенье молний, фасция богов! Сожги во мне намëк на человека..."), и индийский барабан с узкой перемычкой – дамару, о чем мы ещё скажем ниже.
Но сначала продолжим поэтапный анализ стихотворения о Шиве и тантре и дадим ему традиционалистскую оценку. В самом деле, почему Яшин пишет: "Последней истиной открылась миру тантра?" Здесь ключевое слово – последней, а за его интерпретацией нужно обратиться к классикам-отцам традиционализма и порассуждать самостоятельно, отталкиваясь от их тезисов.
Сразу скажу, я немножко знаком как минимум с тремя известными русскими шиваитами-тантриками, и их рассказы представляют определенную ценность, но наши выводы и тезисы будут основаны всё же не на них.
Путь предков
Любой религиовед скажет, что современная форма шиваизма и все основные тантрические тексты сложились очень поздно, примерно с 12 по 17 века, то есть уже в эпоху распространения ислама. И хотя почитание Богини под разными именами обычно связывают с наследием дравидов и мунда, такового пласта почти невозможно увидеть в Бенгалии – родине большинства этих шиваистских писаний, да и в Махараштре тоже. То есть тантра – это несомненное региональное новшество, имеющее функциональную нагрузку в условиях исламского господства и создания синкретических индоисламских учений. На дравидском же юге она приняла иные формы, о которых судить мы не беремся.
С внутренней же стороны любой аутентичный шиваит скажет, что его путь есть новое приспособление к нынешнему тёмному веку и что в древности, в эпоху Вед и полного брахманского ритуала, для освобождения человека не требовалось никакого шиваизма и никакой тантры, но теперь буквальное исполнение традиций путём предков (питрияны) стало невозможным, теперь спастись можно только путём богов (деваяной): полного ведического ритуала больше нет, его заменяют скачкообразные простые пути: тантры у шиваистов и бхакти у вишнуитов (опять-таки с бенгальским центром!), хотя не только они.
Влияние внешнего импульса суфизма на формирование этих доктрин несомненно, хотя сами шиваиты в этом вряд ли признаются. Но именно этот тезис – полный путь жизни в Традиции больше невозможен на земле физически и должен быть заменён новыми интенсивными экспресс-путями – и был охотно воспринят некоторыми классиками традиционализма, сделавшими ставку на шиваизм. Отсюда специфически новейшая черта ХХ века, связавшая индийскую тантру с Консервативной революцией в Европе (вот почему Яшин пишет: "последней истиной открылась миру тантра" – открылась только перед концом света, как аномальный эсхатологический путь, ни в коем случае не претендующий на древность и нормативность).
Остаётся поставить ещё вопрос о соотношении этой индийской модели с православной софиологией и русской классической философией. Оценки здесь зависят от точки зрения. Шиваит, пожалуй, скорее назовёт христианский культ Софии или шиитский культ Фатимы аналогом своей тантры; православный богослов, настаивающий на христоцентризме и исключительной роли Церкви, скорее всего, назовëт шиваитскую тантру индийским искажённым суррогатом православной софиологии. Но функциональное и формальное сходство тут очевидно.
И здесь мы подходим к ещё одному важнейшему вопросу: о воспитании из атеистических людей современного мира сначала религиозных людей вообще, а уж потом приверженцев конкретно, скажем, православия: тут без аналогий с воспитанием благочестия в других религиях не разобраться даже методологически.
Брахманская метафизика
Сравним с вышеприведенным яшинским стихотворением о Шиве ещё один сонет, в котором три темы – тантры, универсального благочестия и восстания против современного мира – прочно соединены:
РОЩИГерои не умрут. Герои будут живы.Они из племени великих аватар.Их будит ото сна дамару Бога Шивы.Они нам принесут великолепный дар.Пусть зорь тантрических вновь полыхнёт пожар,И смолкнут те уста, что от рожденья лживы,И рухнет бастион обмана и наживы,Что превратил наш мир в немыслимый кошмар.Герои близятся. Откройте двери храмовИ дайте им вкусить от жертвенной еды.И дайте вин и женщин без изъянов.Герои к нам пришли. Они сомкнут ряды,Чтоб защитить от черни и профановСвященных рощ созревшие плоды.
Как известно, основатель евразийства Николай Сергеевич Трубецкой написал большую статью "Религии Индии и христианство", крайне жёсткую и резкую, в которой лишь культ Варуны понимал как Бога-Отца, а все остальные культы ведизма, индуизма и буддизма объявил или сатанизмом или пантеизмом. Эта статья обычно считается крайне неудачной, тем более что Трубецкой индологом никогда не был. Никто из евразийцев на эту статью как на нечто авторитетное никогда не ссылался, и правильно делали. Тем не менее, в ней имеются как минимум два ценных момента.
Во-первых, Трубецкой верно подметил непонимание народными массами в Индии брахманской метафизики (➡️ примере вишнуизма, но это относится и к буддизму, и к шиваизму). Суеверные и невежественные народные интерпретации всегда были бичом Индии, на что сетовал и Кумарасвами. И если метафизическая доктрина веданты не допускает никакой реинкарнации индивидов, то европейские неоспиритуалистические секты заимствовали реинкарнационный бред именно у невежественных искажений в Индии, у тех, кто не понимал учения.
Во-вторых, на последней странице своей статьи Трубецкой справедливо настаивал, что даже если приравнять индуизм к сатанизму, то и тогда нужно восхищаться отношением индуистов к своим святыням, их преданному служению им и благочестию, и что православные должны прямо-таки копировать это отношение, применяя его к собственным святыням, учиться ему.
Но такая постановка вопроса выводит нас на тему, о которой мы писали прошлой осенью: прежде чем учиться христианству или конкретно православию, современный человек должен сперва научиться религиозности вообще. Просмотрим теперь, что это значит применительно к нашим шиваитским и не только примерам.
Философия культа
Напомним, что мы писали о философии культа и религии по Флоренскому: https://t.me/zapiskitrad/1253
Напомним и то, как формулировал философию культа де Местр.
И в этом свете рассмотрим важность поэтического вклада Яшина касательно религиозных примеров.
К забытым алтарям мы возвратимся вновь,Сопутствует опять нам солнечная слава, –
пишет он.
Эти строки насыщены аллитерацией: с - с - с в значении солнечности, солярности и в-з-з-в. Вот почему двадцать лет назад в рецензии на сборник Яшина в газете "Завтра" наш друг Алексей Ильинов справедливо привёл именно эти две строки как изюминку всего сборника.
Но разве эти строки – специально о Шиве? Нет, они о священных алтарях и божественной славе как таковых, в других стихах Яшина они обобщены до алтарей и тронов в целом (например, строка "возвысится солнцеподобный трон" встречается в двух разных стихотворениях на совершенно разные темы и хороша сама по себе).
Ритуальных костров нам знаком ароматИ в священных лесах партизанские тропы,
– писал Яшин в песне, которую я слушал ещё в 15 лет, ещё не зная имени автора текста. Разве это о каком-то конкретном ритуале, лесах или партизанах? Нет, это – о принципе. О воспитании благочестия как такового.
Вот наша плоть. И пусть напишет онНа нашей плоти страшные скрижали. –
Разве это только о Бхайраве, Шиве? Нет, это о любой искренней преданности Богу. Христиане или мусульмане не могут быть шиваитами, но, как выше отмечал даже Трубецкой, могут к своей вере прилагать те формы благочестия, которые имеются и у шиваитов: предоставление своей плоти в распоряжение Бога или, скажем, величание, "быкознаменного Господа", как они говорят.
Но за этими вопросами маячат фундаментальные: о жертве, посте, молитве, причастии как всемирных универсалиях. Посмотрим, в чём тут проблема для современных людей.
Сердцевина религии
В традиционном мире христианские, исламские, буддийские, зороастрийские миссионеры приходили к "язычникам" и вынуждали их заменять культ, сохраняя при этом все основные понятия этого культа: священные места и часто даже сами храмы, наименования Бога, календарный цикл праздников, посты. Менялся лишь адресат жертв, молитв и аскетических практик. Но даже конкретные молитвенные формулы, архитектура храмов и их символика и орнаменты, часто – внешняя обстановка жертвоприношений и праздников не менялись. Людям не нужно было объяснять, зачем вообще нужно жертвоприношение, спор шёл лишь о том, кто и кому приносится в жертву. Представители мировых религий и язычники были солидарны в том, что жертва – сердцевина любой религии. Людям не нужно было объяснять, почему храм и алтарь священны и расположены именно на этой горе или в этой пещере: сакральная геософия не менялась при смене религий. Святые места, гробницы источники, камни, деревья являлись святыми и при язычестве, и при христианстве или исламе.
Таков был традиционный мир, где при всех войнах, конфликтах, грехах человек оставался человеком, хотя и несовершенным, падшим, всегда частично ограниченным. Модерн обезбожил мир и расчеловечил человека. Модерну не нужны вообще никакие жертвоприношения и алтари, никакие святые места, никакие символы и узоры, никакие календарные циклы и праздники. И когда современный человек, которому с детства промывали мозги новоевропейской картиной мира, вдруг хочет обратиться к религии, ему нужно сначала прочно усвоить, что такое вообще религиозная жизнь, хотя бы и языческая, а вместо этого ему присылают модернового пастора без жертвы и культа, с пустой шелухой моральных проповедей.
Нужно понимать грань. Грань между разными религиями существует, их нельзя смешивать в некую эклектику, но даже между максимально разными традиционными религиями и культами разница в тысячу, в десять тысяч раз меньше, чем между любой из них и Модерном. Вот почему Честертон сказал: "Все институты современного мира имеют новое происхождение, кроме христианской Церкви. Она одна имеет языческое происхождение".
Этот Модерн сегодня может мимикрироваться и под "современное" православие, католичество, ислам, буддизм, индуизм, зороастризм, под любое неоязычество, родноверие, неоспиритуализм - он всё равно остаётся Модерном, основанным на гуманистическом и просвещенческом человекобожии и отвергающем самые основы традиционной картины мира. Отсюда практический вывод: если древних язычников можно и нужно было сразу учить христианству или, например, исламу, то современных людей надо сперва научить традиционной религиозности как таковой, а потом уже – конкретной религии, иначе он лишь формально будет считать себя обращённым, на деле веруя в ньютоновско-кантовско-дарвиновскую картину мира, в которой вообще жертву приносить незачем и некому.













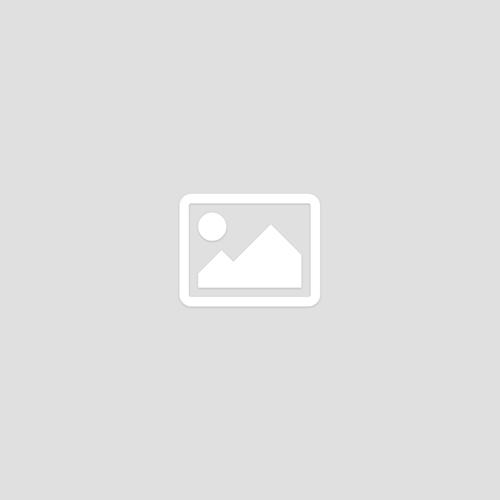





Комментарии (0)