Рецензия на "Умную силу" Владимира Микушевича
Наконец-то опубликована моя рецензия на opus magnum Владимира Борисовича Микушевича - "Умную силу". Рецензия писалась ещё при его жизни и задумывалась как дар ему. Он скончался в тот момент, когда я писал уже последнюю страницу рецензии. В связи с этим, кроме оговорки в самом начале, изменений по существу в текст не вносилось.
Скачивайте и читайте, входите в мир 900-страничной "Умной силы" Микушевича - базовой книги по философии творчества (креациологии).
Так как рецензия опубликована в церковном журнале, то я спокойно отнёсся к обычной для таких изданий цензуре: один абзац пришлось просто вычеркнуть, причём не меняя ничего в тексте до и после него. Но чтобы читатели знали сущность учения Микушевича, нужно познакомить их и с этим отрывком. Не пропущенные цензурой строки выделены курсивом:
"Неслучаен и выбор из русских писателей XX в. для анализа М.А. Булгакова потому, что «Мастер и Маргарита» – роман, насквозь пронизанный реминисценциями из немецкой литературы, особенно из Гёте и Гофмана (Микушевич В.Б. Умная сила: Опыты по исследованию творчества. С. 648–669). К булгаковскому роману автор «Умной силы» возвращается не раз и в других главах, неизменно подчеркивая противопоставленность Иешуа подлинному Иисусу Христу. По контрасту с Булгаковым обрисована сложная, неоднозначная фигура А. Кроули – тонкого поэта и богослова, автора поэмы «Благодатная Мария» (переведенной на русский именно В.Б. Микушевичем) и очерка «Сердце Святой Руси», почитателя православной литургии и иконописи. Как же так получилось, что в популярной культуре Кроули, выросший в семье протестантских фанатиков и приобщившийся к православным ценностям и почитанию Богородицы, заслужил в результате репутацию «сатаниста»? Глубинный смысл духовных исканий этого творца подробно рассматривается Микушевичем, причем дело не обходится без отсылок к героям Достоевского. Выводы автора о Кроули таковы: «Он решает стать лучшим, то есть величайшим грешником в мире… и решается на этот грех как на последнюю возможность спасения, ибо для Божьего милосердия нет ничего невозможного. <…> В Кроули распознаются черты русских метафизических экстремистов, и не эти ли черты влекут его в Россию как на духовную родину? И в святости, и в грехе Кроули ищет запредельного, как будто в запредельном святость и грех совпадают» (Там же. С. 800–801). Таким образом, для В.Б. Микушевича, искушенного в интерпретациях гётевского Мефистофеля и булгаковского Воланда, нет запретных тем даже применительно к телемитским безднам. Кроули стоит для него в одном ряду с Максимилианом Волошиным, Рильке и Маяковским – тремя «волхвами», тайно взыскующими спасения от Христа и Богоматери, чьи редкие, единичные воззвания к ним служат свидетельством оправдания остальной их жизни."
Ещё один крайне важный отрывок из моей рецензии на "Умную силу":
Дерзновенным по форме и глубоким по смыслу является очерк «Игра в человека», посвященный философии пола, антропологии ребенка, вопросу о земном рае, социальной проблеме педофилии и насилия в школе как оборотной стороне запрета современной «культуры» на ласку (данная тема, как и тема дураков в целом, освещена автором также в цикле телепередач «Магистр игры»). Болезненные для русского самосознания и истории России вопросы затронуты в главе «Земля-именинница» . От представленной в ней философии почвы происходит закономерный переход к философии крови, точнее, к мистике и мифу крови, постоянно проливаемой на протяжении всей истории человечества (тематика, излюбленная многими авторами от Ж. де Местра, В.В. Розанова и П.А. Флоренского до А. де Дананна и В.И. Карпца). «Кровь течет не только в жилах человека, это универсальная стихия всего живого, соприкасающаяся со стихиями космоса», – подчеркивает В.Б. Микушевич и заключает: «Кровь говорит, у нее есть голос, вернее голоса, но голоса ее таинственны, и говорят они исключительно в поэзии». Следующая глава посвящена похвале (а в чем-то и осуждению) глупости как универсального качества, пронизывающего гениев и дураков, богатых и великих; здесь на новом уровне рассматривается феномен русских юродивых и сказочных дураков, а заодно поднимается такая острая социальная проблема, как борьба детородности (апофеоза «глупости») с головным, рационалистическим движением «чайлдфри». Весьма нюансированным получился богословский очерк о понятии истинных и ложных чудес и знамений в христианстве.
Фундаментальное значение имеет глава о философии времени и вечности, жизни и смерти человека. Она называется «Освобождение от времени. Человек в поисках вечности» и посвящена рассмотрению категорий прошлого, настоящего и будущего и места смертного человека на их пересечении. Обозревая разные интерпретации времени от Древнего Египта и блаженного Августина до советского большевизма и Георга Гадамера, В.Б. Микушевич делает заключение о центральном месте жертвы Христовой и Конца света (апокалиптики), превращающих прошлое и будущее из неразличимых фикций в подлинно исторические, реальные феномены. Отрицание вечности как антиутопии новоевропейским сознанием влечет за собой культ длящегося настоящего и культ прогресса, жертвами которого по-разному падают и гётевский Фауст, и обыкновенные наркоманы, и такие зачинщики «бунта против истории», как Деррида с Фукуямой, желавшие стереть историческое время, хотя конец времени неизбежно наступает и для них.
...Мировые культуры В.Б. Микушевич делит на культуры Несказанного (например, египетская, индийская, древнегреческая, суфийская исламская, символизм ХХ века) и культуры Откровенного Слова (христианские: византийская, армянская, русская, средневековая европейская). В первых культурах акцент сделан на тайное («нет ничего явного, что не осталось бы тайным»), во вторых – на явное («нет ничего тайного, что не сделалось бы явным»), хотя на путях конкретного литературного творчества они могут пересекаться. Именно с этим разделением мыслитель связывает специфику русской православной культуры, основанной на откровении Слова в иконе, на триаде «благодать – целомудрие – преображение», тем самым отвергая клеветническое обвинение Г.П. Федотовым русской культуры в «немоте». Принципиальными культурами молчания, скрывающими тайное откровение, являются древние языческие культуры или, например, исламская (суфизм); русская же православная культура не скрывает и молчит, но безмолвно показывает, являет, открывает тайну Троицы и Слова. В этой связи В.Б. Микушевич, кстати, противопоставляет смыслы русского «Слова» чрезмерно рационалистическим смыслам греческого «Логоса», в чем невольно перекликается со стихотворной строкой В.И. Карпца: «Староверский толк правил тайно Логос на Слово».













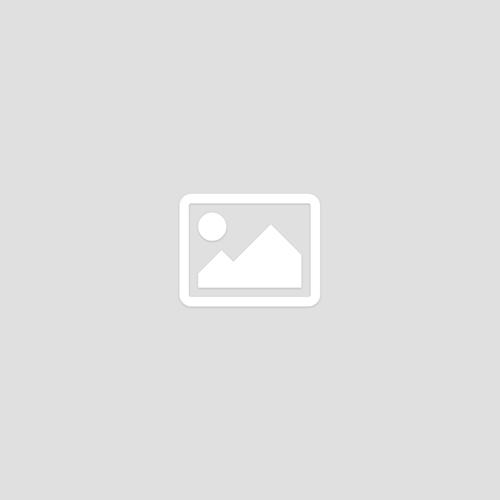





Комментарии (0)