Волшебный прутик: магическая сила вербы
Почему у славян вместо Пальмового воскресенья – Вербное? Как отмечали его в традиционном русском обществе и у южных славян? Отвечаем по материалам канала "Балто-славянский круг".
Перунова лоза
Употребление свежераспустившейся ветви вербы, по мнению исследователей, намного древнее христианства (Грушевский 1993: 202-203).
В народе верба считалась священной и наделялась магическими свойствами не только в силу своего христианского значения. Представления об этом уходят корнями в дохристианские, языческие времена и связаны с жизненной силой, заключенной в этом растении, свидетельством которой считались распустившиеся раньше других почки. Расцветшее дерево символизировало наступающую весну и при помощи некоторых обрядовых действий, через прикосновение, должно было передать здоровье, силу и красоту человеку или животному. (Весенне-летние обряды. Материалы Российского этнографического музея), (Русская Мифология, 2005, с. 222) Славяне с древнейших времён особо почитали вербу в связи с космологическими представлениями о ней. Что представлено в богатом фольклорно-этнографическом материале.
Болгары считали, что в Вербное воскресенье или на С. н. раскрывается небо и предки возвращаются на землю, где остаются до Троицы. Поэтому на С. н. у болгар и сербов принято было посещать кладбище и поминать покойников. Женщины раздавали на кладбище обрядовые хлебы (просфорки, лепешки, часто в нечётном количестве и из пресного теста) и устраивали поминальный обед дома; оставляли на могилах коливо и крашеные яйца; пускали по воде специально приготовленные хлебы; жгли на могилах свечи, украшали цветами кресты и памятники.
В канун вербного воскресенья в с. Павловском-Куракине Городищенского у. Пензенской губ.
Здесь начинали к нему готовиться за три-четыре дня. Девушки, разделившись на группы, собирали продукты, из которых в субботу готовили рыбный «курник» и кашу, пекли гречневые блины, варили брагу. Молодежь веселилась, потом угощалась.
Около ворот каждого дома кричали; «Отопри, отопри, молодая, вербошкою бить, здоровьем больше прежнего наделить». Молодая отпирала ворота, и толпа входила во двор с песней о умножении хлеба и богатства. В избе слегка ударяли спящих вербой, приговаривая: «Верба хлёст, бей до слёз»; Последней били молодую, а она кланялась и провожала за ворота молодёжь с песней.
Потом возвращались в дом, где было приготовлено угощение, и ели блины и кашу. Утром кашевары угощали блинами пришедших поздравить их с праздником мальчиков. «Все торжество оканчивается песнями, пляскою и неприличными коверканиями. Но теперь этот обычаи стал ослабевать», заключал информатор.
(ГМЭ, № 1296, л. 10-13).
Надо вспомнить, что у южных славян «Лазарева суббота» сопровождалась рядом весенних обрядов, в частности у болгар это был девичий праздник —
лазарование. Весьма вероятно, что и у восточных славян когда-то к этому времени был приурочен более сложный праздничный ритуал, не ограничивавшийся только ударами веткой вербы. (Соколова В.К.)
Стародавнее предание о "Перуновой ветке" сочеталось у славян с вербою.
Различные названия, придаваемые индоевропейскими народами волшебному пруту, указывают на пламя молнии и громовые удары, которыми дробятся облачные горы. Афанасьев сближает с этими понятиями Гермесов жезл, трезуб Посейдона. Губительная омела в славянкой традиции может заменяется ивою = вербою. Которая играет в наших поверьях и обрядах роль Перуновой лозы. См. народные предания о Иве пронзавшей тело умирающего-воскресающего Христа на казни, подобно омеле, ранившей тело Бальдра.
А.Афанасьев, А.Потебня и другие исследователи считали вербную ветку воплощением молнии ("божий проутек") или «Перуновой Лозы». С молнией равно соединялись и живительная, и мертвящая сила, что Гермесов жезл (= Перунова лоза) не только пробуждал мёртвых, но и погружал в непробудный сон (т. е. предавал их смерти). Возможно, с представлениями о перуновой лозе также связаны славянские мифы о стреле Громовержца вонзённой в иву, где прятался чёрт.
Мировое Древо
Освящённая веточка вербы была очень распространенным оберегом у славян. Обычай освящения её в «праздьникъ вьрбны» – воскресенье перед Пасхой – очень давний, о нем вспоминает уже Изборник 1073 года. Важно подчеркнуть, что, хотя христианство не приписывало освящённым предметам чудодейственную силу, в традиционной культуре сакральный материал использовался в разных, в том числе магических, целях. В таком контексте употребление освящённых веток вербы среди населения Восточной Европы впервые упомянуто в Вольфенбюттельской Постилле в 1573 году. В этом источнике отмечено использование вербы в гаданиях, втыкание скрещенных веток над дверью, окнами или воротами (Срезневский 1893; Мардоса 2007). Согласно Румянцевскому сборнику 1754 года, люди, которые волхвуют, «вербу въ стѣну втыкаютъ» в качестве оберега – «въторгнетъ да не умретъ того лѣта» (Буслаев 1861; Гальковский 1913). Следует полагать, что имелась в виду смерть от молнии.
Ветки В., освящённые в Вербное воскресенье, использовались для защиты от грома, грозы и бури. Чехи, для охранения домов от ударов молнии и пожаров, держат на кровлях netresk и hromove koreni. Русские верили, что В., брошенная против ветра, прогоняет бурю, брошенная в огонь — усмиряет его, а посаженная в поле — оберегает посевы (Тамбовщина), что выброшенные во двор ветки останавливают град. Белорусы ставили при граде пучок освященной В. на подоконник (Витебщина); в Карпатах при грозе ломали освященную В. и жгли в печке, «чтобы дым отвел грозу и дьявол при этом не прятался в трубе»; поляки при буре и граде кропили тучу освящённой вербой и святой водой и жгли ветки В., клали их на подоконник. Болгары также жгли освящённую В. от грозы и града, хорваты сжигали мелкие ветки В., а большой горящей вербовой веткой хозяйка дома крестила грозовую тучу, «чтобы она рассеялась». Во многих местах (у сербов, поляков) из освящённой В. делались кресты; их втыкали в пахотную землю для защиты урожая от града.
«На Вербницю верби свотимо, вербочку поставиш, кажуть, Перун не битиме» – объясняли в селе Речица Ратновского района Волынской области (Толстая 1984: 191). " Литовцы в песнях пели, что Перкунас не повредит молнией цвета вербы"
"Вербу не бье гром" (ПА, Замошье Гомельской обл.)
Во время града разламывали пополам вербную веточку и крест-накрест бросали в огонь (Чајкановић 1985: 70). Польские гончары, приступая к обжигу, тоже бросали в огонь крест-накрест освященные вербные веточки или же венки из них (Czubala 1974: 194; Czubala 1978: 33).
Втыкали освящённые ветки во все хозяйственные постройки и в дом, полагая, что они оберегают дом от грозы и всякого зла. Делали из освещённых в. веток крестики, с помощью которых позже кропили поля освящённой на Пасху водой; клали их в посевное зерно, а после жатвы подкладывали в амбары под мешки с зерном; (Славянская мифология: энциклопедический словарь)
На фоне многочисленных параллелей в обрядности иранского Навруза – Нового года, приуроченного к весеннему равноденствию, – и украинской Пасхи, интересно, что горные таджики начинают этот праздник с того, что приносят в дом веточки вербы, освящают их и устанавливают в сакрально отмеченном углу. (Рахно)
Верба широко использовалась в обрядах вызывания дождя (вспомним в этой связи лозоходство, где применялась развилка ивовой ветви или виноградной лозы).
Южнославянских додол часто украшали с ног до головы ветками вербы; из неё же были сделаны их венки, а также букетики, которыми додолы кропили людей и скот во время обходов дворов (Антониjевић 1971: 194; Грбић 1909: 335)., там же использовали крестик из вербных веточек (Милосављевић 1913: 395), или с вербовыми
палками в руках. У сербов в В. в. лазарки ходили с вербовыми ветками (Косово) и иногда затыкали их в дверях дома, хлева, в ворота (Банат).
Связь вербы с дождем обнаруживается в детских закличках дождя: в них описывается, как горшок с борщом, который должен пролиться на землю подобно дождю, устанавливают на вершине вербы или дуба. (ПА, Перга Житомирской обл.) Что так же связывает в. и с образом Мирового Древа.
Целебная сила
«Верба красна, бей до слёз, будь здоров!» (саратовск.);
«Верба-хлёст, бей до слёз!» (восточнославянск.)
Ритуальное битьё вербными ветками – акт, который имел целью вызывание осадков, здоровья и плодовитость. Такие обрядовые действия входили даже в древние церемонии инаугурации. Битье вербовой веткой в В. в. распространено у восточных и частично у южных славян, поляков и чехов.
Били «до сліз»: слёзы – магическое подобие дождя, семантически они ему близки; пролитие слёз обеспечивает [с. 309] дожди на будущие посевы и в то же время очищение от тёмных сил. Здоровое, расцветающее дерево должно было как бы передать здоровье, силу и красоту человеку или животному. Как видим, вода соотносится здесь с понятием здоровья (а именно от Перуна зависела продолжительность человеческой жизни (Серяков 2005: 52)), а земля – с богатством. Такую магическую перспективу создавали удары Перуновой лозой (Іванченко 1991: 57). Вегетативная сила дерева колдовским образом, при помощи прямого контакта, должна была передаться живым существам.
Из-за своего языческого происхождения обряд битья вербной веткой у украинцев кое-где вплоть до начала ХХ века преследовался властью (Бондарь 2003: 96).
Битье вербой после обедни в Вербное воскресенье с приговором «Верба бйе, не я бью!», известное у восточных славян (Полесье), воспринимается как забава или как добрый обычай, оживляющий весенний праздник в преддверии Пасхи. Церковный календарь закрепил за обрядом воскресенье перед Страстной седмицей и тем самым во многом сохранил этот обряд, в котором приговор имеет вполне «языческую» концовку:
«Будь здоров, как вода! Будь богатый, как земля, и расти, как верба!»
Обряд, как и праздник, оказался подвижным (не приуроченным к определённой дате), но обряд битья скотины вербовой веткой в целях приплода скота закрепился за
Юрьевым днем (23.IV. ст. ст.).
Словенцы в вербное воскресение делали связки из веток вербы или нескольких лиственных растений и называли их "БУРАТА". Это могла быть полутора-, двух- или трёхметровая палка, украшенная вербовыми ветками, орехами, пряниками, могла быть и просто связка веток. Её освящали в церкви, приносили домой, с ней троекратно обходили дом, хлестали двери дома, вешали во дворе на дерево, под стреху, несли в хлев, на пчельник, на сеновал, считая, что бутара защищает от грома и града. Её употребляли при первом выгоне скота, при первой пахоте, при лечении болезней.
На Руси вербе и её серёжкам приписывалась целебная сила: съедали по девять вербных серёжек, считая это лекарством от лихорадки. Клали вербу в воду, в которой купали больных детей (Энциклопедия обрядов и обычаев / Сост.: Л. И. Брудная, З. М. Гуревич, О. Л. Дмитриева). В Харьковской губ. «сердце» (сердцевину) вербы вынимали и прикладывали к больному зубу, а затем возвращали на место, чтобы оно там приросло и тем самым заперло боль внутри дерева (Харьковский сб. 1894/8: 314). Окуривали дымом от сожжённой ветки больных; тёрли распустившимися почками вербы больные глаза. Для оздоровления заваривали чай из вербных почек и коры.
Вбить в стену своего дома колышек освящённой вербы считалось средством избавления от трусости и робости. (Энциклопедия обрядов и обычаев / Сост.: Л. И. Брудная, З. М. Гуревич, О. Л. Дмитриева.)
Литовцы также считали, что в вилктака – волка-оборотня можно превратиться, перевернувшись через пень ивы.
На Украине вербу использовали в родильно-крестильных обрядах.
На "злывках" повитуха настаивала на ветках вербы воду и этой водой обмывала и поила роженицу, желая молодым родителям: «Як верба росте швыдко, щоб так и дытына росла швыденько!» (Савченко 1926: 81).
Придавая вербе значение плодовитости, народная традиция тем самым принимает вегетативную силу вербы за производящее начало, которое может быть передано земле, скотине, домашней птице и даже женщине, или, точнее, подменяет одно понятие другим, а то и уравнивает их.
Отдельный и вполне самостоятельный аспект культурно-языкового и фольклорного образа вербы — её женская символика, основанная на грамматическом роде названий вербы в славянских языках. (Т.А.Агапкина)
Богиня чадородия
Этому дереву приписывается благодатное влияние на чадородие жён; по словам Нарбута, крестьянки приходили к вербе и воссылали к ней мольбы о даровании им детей". Аналогично у чехов, в области Угерске-Градиште, бездетные женщины ходили именно к старым вербам просить о даровании им детей. (Афанасьев)
Интересно что в германских Эддах люди были созданы богами из древ, а имя первой женщины "Эмбла" переводится как "Ива".
Обычаи, связанные с ивой/вербой как женским деревом:
Советовали есть почки освящённой вербы бесплодным женщинам, а также как предохранительное средство от других болезней. (Энциклопедия обрядов и обычаев / Сост.: Л. И. Брудная, З. М. Гуревич, О. Л. Дмитриева).
В Малопольше и некоторых других регионах ветками вербы украшали свадебный каравай, а также плели из них специальный головной убор, который после очепин надевали на невесту (Marczewska 2002: 207)
У чехов в области Угерске-Градиште в Страстную пятницу девушки трясли вербу и «выпрашивали» у нее красивого мужа: [Верба, верба, дай мне мужа, красивого, как роза, белого, как цветок, доброго, как мёд]. В этих же местах старые вербы считались наперсницами девушек и молодых женщин, которым те нашёптывали свои тайны и которые обещали хранить их до смерти, поэтому о старых женщинах здесь обычно говорили «молчит, как верба» (Habartova 2003: 95).
В сказках и преданиях верба выступает в роли покровительницы женщины или её двойника и фигурирует в сюжетах, обнаруживающих глубокую связь женщины и дерева, в каком-то смысле даже их родство друг с другом (что в целом для славянской мифологии деревьев нехарактерно), см. белорусское поверье о том, что наклонившиеся над водой вербы — это матери, потерявшие своих детей (Сержпутоўскi 1930: 30).
Чешская сказка (Биджов, округ Градец-Кралове) повествует о женщине, у которой была одна жизнь и душа напополам с вербой. Днём женщина находилась в доме, с детьми и мужем, а ночью душа покидала тело и уходила в вербу, растущую у реки. Муж её в конце концов заметил, что ночью она лежит как мёртвая. Баба-вештица посоветовала ему пойти ночью к реке и найти там вербу с белой корой, в которой пребывала душа его жены. Муж пошёл к реке с топором и срубил вербу, но в тот же миг умерла и его жена. Из срубленной вербы сделали колыбель, в которой качали её маленького сына, а когда он подрос, то сделал себе свирель из вербы, выросшей из веток того самого срубленного отцом дерева, и голосом этой свирели мать разговаривала с сыном (Sobotka 1879: 130–131).
В рассказе из Закарпатья обращение к вербе за помощью помогает девочке избавиться от посягательств злого духа:
"Очень хорошее дерево верба .. подойти к вербе и сказать: “Вербица-сестрица, смилуйся”, обходить вокруг вербы за солнцем три раза и, обойдя полный круг, плюнуть на землю, а потом, когда пойду домой, что бы ни слышала сзади, не оборачиваться"
Склоненная над водой верба или плакучая ива символизирует печаль, нелегкую девичью или женскую участь: «Стоит верба над водою, хитає собою, / Молодая дѣвчинонько, жаль ми за тобою! /
Стоит верба над водою, а под нею яма, / Ой не тужи, мой миленькiй, бо я тужу сама!» (Головацкий 1878/1: 214)
В белорусских заговорах верба становится местом обитания царицы змей, носящей имя Їва, Ева, Явгиня, см.: «На моры, на лукамор’і стаіць вярба, на той вярбе семсот галля, а ў том галлі звіта лапухова гняздо, у тым гняздзе ляжыць Ева-царыца» (Замовы 1992, № 410)
Известно, что верба легко разводится не только от корня, но и от срубленных и вбитых в землю кольев; вот почему славяно-литовское племя сочетало с вербою мифическое представление о плодоносном дереве-туче; в это дерево и превращается облачная жена (Афанасьев).
В древней Литве верба считалась богиней чадородия, ей приносили молитвы и жертвы (Ремизов А.М.). Язычество и христианство в Литовском Полесье тесно переплеталось. Например, народ чтил вербу, в которую, по преданию обратилась богиня плодородия. Духовенство повесило икону на вербе, и народ продолжал молиться перед нею. Духовенство радовалось, что молятся перед иконой; народ радовался, что не запрещают молиться перед вербой [А.Киркор, с.33 ]. (Живописная Россия.-Т.3: Репринт. воспроизв. изд. 1882 г./ Под ред. П.П. Семенова. - Мн., БелЭН, 1993.)
По преданию, в древние времена жила в Литве Блинда — жена, одарённая изумительным плодородием; она рождала детей с необычайной лёгкостью, и не только из чрева, но даже из рук, ног, головы и других частей тела. Земля, самая плодовитая из матерей, позавидовала ей, и когда Блинда шла однажды лугом — ноги её вдруг погрузились в болотистую топь, и земля так крепко охватила их, что бедная женщина не могла двинуться с места и тут же обратилась в вербу. Рассерженная Мать-Земля превратила её в вербу с огромным количеством детей – пушистых почек, распускающихся ранней весной, когда др. деревья ещё находятся в зимней спячке (Коринфский А. Народная Русь. М., 1995; Шангина И. И. Русский народ. Будни и праздники. СПб., 2003).
В основе распространённых песен и сказок о превращении сказочных героев и героинь в звериные, пернатые и растительные образы, скрывается миф о демонической силе, которая разрывает любовный союз Бога-громовника с облачною девою и творит из них оборотней.
(А.Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. Том 2)
В Древней Греции ива посвящалась женским божествам. Богиня Гера родилась под ивой.
Плоды на бесплодном дереве
В то же время быстрый рост и неприхотливость вступали в явное противоречие с таким свойством вербы, как ее "бесплодие". Тема бесплодия вербы разработана в языке и фольклоре ничуть не меньше, чем тема её быстрого роста и неприхотливости — в магии и ритуалах.
В языке прорастание вербы часто становится метафорой женского бесплодия, о старой деве, которая уже не может иметь детей’ («на заднице верба выросла», Гура 2012: 34), а в фольклоре иногда ассоциируется с неурожаем и бесплодием земли, см. в украинской песне: «Ох поля, вы поля, вы широкие поля, / Шо на ваших полях да урожаю нема, / Тольки выросла кучерява верба, / А под этой вербой солдат битый лежит…» (ПА, Копачи Киевской обл.).
Существует обращение к ней не только за удачным браком и плодородием, и с прозьбой не позволить соединиться парню и девушке и «детей выводить»: «Ах ты, верба, ты, верба моя, / Точена, золоченая моя, / Не стой над рекой высоко, / Не пускай сучья низкого, / Не давай соловьям гнезда вить, / Перепелочкам детей выводить. / Перепелочка — (имя девушки), / Соловеюшка — (имя молодца)»
(Копаневич 1912, № 21 и след., Псковская губ.).
Особенно характерна негативная коннотация вербы для Балкан, где, к примеру, некоторые виды вербы не освящали в Вербное воскресенье: «črne vrbe žegen ne prime» [чёрная верба не примет благословения] (Kuret 1: 128); см. аналогичные верования в карпатском регионе (Rulikowski 1879: 100).
В болгарских и македонских этиологических легендах верба становится бесплодной за то, что скрывает от Бога прячущегося демона, или за ложь. "Вербное дерево, пусть ты цвет имеешь, а плоды на тебе не завязываются" (Ангелова 1948: 138, Самоковско). Македонцы, считая вербу проклятым деревом, отмечали, что она не даёт ни плодов, ни тени и поэтому под ней плохо спать (Филиповић 1939: 502), её связывали с дьяволом, и избегали вешать на ней качели ко дню св. Георгия (*по поверьям на ветвях вербы часто качаются русалки).
Одна женщина родила девять детей, но много лгала… Дьявол их взял… и тогда Господь рассердился и проклял её: «Доныне ты плодоносила, а отныне будешь цвести, но не плодоносить». (Македонская легенда)
В подобных легендах опять же фигурирует мотив превращения женской сущности в вербное древо.
По украинским поверьям, во время грозы под вербой прячется злой дух, в которого Господь бьет перунами (Rokossowska 1889: 189). Верование известно и южным славянам: под вербой обитают нечистые духи, поэтому, когда гремит гром, не следует прятаться под ней, а также сажать вербу поблизости от дома, так как св. Илья-Громовержец или Бог, целясь в дьявола, поражает и человека (Чаjкановић 1985: 97; Вукановић 2001:
70). Чтобы дьявол убрался из вербы, в которую из-за него часто ударяет гром, западные белорусы перевязывали дерево суровой льняной ниткой (Federowski 1897/1, № 1386), вероятно потому, что считали лён святым растением. Жители Галиции остерегались срубать старые вербы, опасаясь внезапной слабости и объясняя это тем, что в них «сидить той, бодай му фай было», т.е. черт (Кузiв 1889: 336)
Сербы-боснийцы говорили, что В. была проклята и потому она обыкновенно гнила изнутри. В неё стрелял из лука и её проклял св. Сысой; он метил в сатану, который в ней прятался.
Постоянные колебания культурно-языкового образа вербы между двумя полюсами: бесплодием, с одной стороны, и буйным ростом и витальностью — с другой, стремление снять это видимое противоречие, возможно, объясняют появление целой группы паремий или формул невозможного — о плодах, вырастающих на бесплодной вербе, типа «когда на вербе груши/яблоки вырастут». Приём «разоблачения несбыточных обещаний» ложится в основу свадебных песен, в которых вслед за картинами райской жизни в замужестве рисуются прямо противоположные, развенчивающие эту иллюзию.
Появление плодов на неплодовом дереве — это мотив, имеющий широкие литературные параллели, в которых само обещание такого события воспринимается как ложь, преувеличение, ассоциируется с чем-то неправильным и потому оценивается негативно.














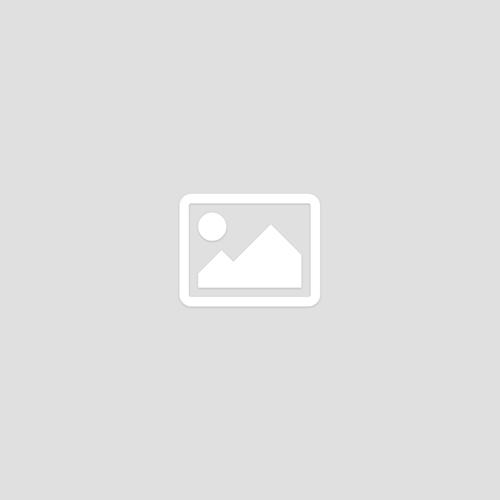





Комментарии (0)