Образы христианского богослужения в поэзии Яшина
Русская поэзия имеет давнюю традицию поэзии на темы иранской религии. Об этом писали Цертелев, Бунин, другие поэты ХХ века. Достойным увенчанием этой поэтической линии стал Яшин.
ОБЕТПусть ляжет на уста молчания обет.Зажжём светильники и вознесём молитвы.Мы знаем, близится мистический рассвет;Мы собрались на мессу Бога битвы.Пусть ночь темна и траурна палитра,Но скрыть ли сумеркам божественный Завет?Неся причастье закланных комет,На Хара Березайт восходит светлый Митра.Прими и ешь, мой посвящённый брат.В причастной чаше вспенилась Хаома –Вот два свидетеля в безмолвии стоят.Ты в Арьяварте вновь. Ты удостоен дома.Ты стал причастником. Теперь тебе знакомоСветило ариев, великий Зонненрад.
Это заставляет нас вернуться к часто обсуждаемой проблеме православного миссионерства. Если средневековое православие привлекало людей великолепными храмами, фресками, иконами, пением, то в Новое время это всё постоянно деградировало, а в начале 21 века у нас почти нет художников и поэтов, которые могли бы ярко и доходчиво донести до внешних людей, до молодёжи, до атеистов любого возраста красоту и истину православного христианства. В итоге люди уходят кто к неоязычникам, кто в ислам, кто в буддизм и зороастризм, а районе и в католики уходили (сейчас католицизм усилиями пап стал таким тошнотворным розово-голубым, что уже никого привлечь не может).
Давайте зададимся простым вопросом. Самое главное в Православии – это таинства. Кто из русскоязычных поэтов 20-21 веков гениально воспевал таинства так, чтобы привлекать людей? Ответ: Блок, Карпов, Клюев, Мандельштам, Бродский, Башлачёв, Яшин. Легко заметить, что все они по жизни были не всегда ортодоксальны, наполовину еретичны, но именно они создали шедевры именно на темы православных таинств. Никаких альтернативных талантов, кто бы это делал, не было и нет.
Про художников – ситуация ещё печальнее, тут по пальцам одной руки можно пересчитать. Кто-нибудь вообще собирается решать эту проблему?
Особенность Сергея Яшина как поэта в том, что во все периоды его творчества, какие бы религии и секты он ни менял, константой в его стихах оставались яркие образы именно христианского богослужения. Темы крещения, воскресения, крестного хода присутствуют в них во все периоды (даже в языческий, даже в телемитский). Часты в них старообрядческие образы:
Мы круг замкнем магический и разожжём огонь,И двинемся, как исстари, как надо – посолонь.
Но совершенно исключительное место в поэзии Яшина занимает образ причастия телом и кровью. По мере смены поэтом разных вер и сект менялся субъект причастия, но его описание оставалось неизменным и кочевало из одного стихотворения в другое. Я насчитал десятки (!) восхвалений причастия у Яшина, по сравнению с единичными случаями у Мандельштама или Карпова. Аналогов в русской поэзии этому я не знаю. Вот лишь ряд примеров:
Мы причащаемся из одного потира,Почуяв роскошь солнечных корон.("Эвола", поздняя редакция)
Но причастились мы хаомой из потира,Почуяв тяжесть солнечных корон.("Эвола", ранняя редакция)
Прими и ешь, мой посвящённый брат.В причастной чаше вспенилась хаома...Ты стал причастником...("Обет". Здесь – прямая цитата из православной литургии: приимите, ядите)
И дайте им вкусить от жертвенной еды.И дайте вин...("Рощи". Здесь уже не хаома, а вино)
Отведайте наш хлеб и оцените мëд...("Рощи")
Тебе клянёмся мы, Грааль,Словами страшной этой клятвы,И что нам мир? Его не жальОгню гиперборейской жатвы.("Легион Гаммадиона". Здесь христианский культ причастия из Грааля сочетается с цитатой из Апокалипсиса)
Снова в печах готов для причастийВеры грядущей ангельский хлеб.("Жатва". Безусловно православная отсылка, но снова с эсхатологической ноткой)
Неся причастье закланных комет...(снова "Обет", но теперь в связи со следующим примером)
Сгори, страна. Последнее причастьеПрими скорей, обугливши уста.("Сгори, страна" – в этих двух примерах Яшин особенно близок поэтике Пимена Карпова: "Взойди на буйнозвездную ступень И причастись причастием заклятым")
В кубках вспенилась кровь. Она быстро и славно пьянит.Оцените на вкус эту роскошь божественной плоти.Наша белая плоть... Как она аппетитна на вид!Причаститесь же ей, и тогда вы вовек не умрёте.Ешьте больше, чтоб стать, хоть немного, подобными нам...("Трапеза". С этих пор у Яшина начинает развиваться сектантский мотив самоотождествления себя с Божеством)
А на облатке кровь. Ты знаешь, кровь моя.Распятье суждено, и сладостно томленье,И в чашу жертвы изливаюсь я.(Это одно из самых поздних стихотворений Яшина, 2015 года, и опять мы видим, что он соблазнился средневековой католической плотской мистикой, но и тут все образы остаются христианскими литургическими.)
Итак, Яшин был поэтом Причастия par excellence. И в этом его роль для русской поэзии, может быть, не меньше роли Гëльдерлина для немецкой.
Кстати, за что ещё (среди прочего) будут чтить Яшина как поэта, так это за выражение "роскошь трона".
Мы возвращаем роскошь трона.("Легион")
Царь близится, взыскуя роскошь трона.("Тибет")
Мы дети будущей Вандеи,Мы верим в роскошь орифламм.("Знаменосцы")
Владыке Севера мы приготовим трон...("Бхайрава")
Тут повсюду аллюзии на православную иконографию гетимасии – приуготовления трона.
Для воспитания монархических чувств, почтения к сакральному, сословной иерархии это значило не меньше, чем, скажем, его "Опричная гробница", и побольше многих сухих трактатов о монархии.
Алтарь и трон – таков был лозунг защитников Традиции в Новое время. У Яшина и про алтари есть немало:
Мы целуем мечи. Мы клянемся опятьАлтарями богов и преемством традиций...("Европа")
К забытым алтарям мы возвратились вновь,К забытым алтарям мы возвратились вновь.("Бхайрава")
И здесь тоже – воспитание через эстетику. Кто познал значение трона и алтаря, кто вернулся к здоровым народным патриархальным понятиям, тот уже не отступит и не соблазнится левацкой и либеральной демагогией.













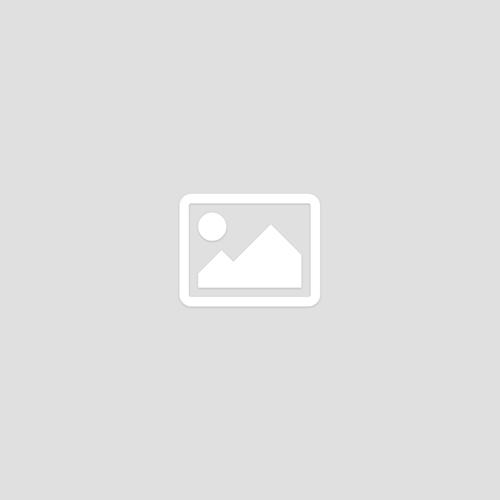





Комментарии (0)