Наталья Игнатьева: «Злыдота – тады зло!»
Это не милые добрые хоббиты, не сусально-сакральные пасторали среднерусской возвышенности, не утонченность готических рыцарей. Это… жесть какая-то! Но для тех, кто больше не может выносить легкости бытия, но ощущает тягость мира, не здесь ли таится то самое вожделенное настоящее?
Мы, люди, испокон веков привыкли, говорить о свободах и не-свободах, правдах и не-правдах, любви и не-любви. И сознательно и бессознательно мы предполагаем (именно исходя из формы слова), что находясь в состоянии не-свободы, мы можем приложить усилия и, преодолев приставку «не», обрести свободу. Знатоки, чувствители языка считают, что именно в языке наиболее подлинно отражается история.
А сейчас почти каждое явление нашей жизни, почти все категории предметов и понятий имеют какой-то незримый ореол – это скрытая от невооруженных взглядов приставка «псевдо». Ее наверняка можно легко увидеть, воспользовавшись простым приемом, который знают дети, часто играющие в призраков: долго смотреть на какой-то предмет, а потом закрыть глаза и сильно нажать на них руками – увидишь «призрака» – фантомный расплывчатый силуэт.
Не проводя таких сомнительных и вовсе не научных экспериментов, мы можем заметить все же, что и в языке такое положение вещей уже нашло свое отражение: псевдо-свобода и псевдо-несвобода, псевдо-жизнь и псевдо-нежизнь, псевдо-любовь, псевдо-счастье, псевдо-еда, даже псевдо-смерть, псевдо-человек, псевдо-интеллектуальность. Единственное слово, к которому не пристает псевдоприставка «псевдо» – это слово «виртуальный». То есть «реальная жизнь» вполне может стать «псевдореальной-псевдожизнью», а вот виртуальная жизнь, псевдо-виртуальной быть не может. От присутсвия фантомного следа «псевдо» она становится еще виртуальней.
И мы, увы, не застрахованы от того, что взыскуя истины, взыскуя знания, получим псевдо-истину и псевдо-знание. И даже не будем знать об этом, если не научимся «играть в призраков», как умели когда-то настоящие дети, а, конечно, не современные псевдо-дети.
Размышления, подобные этим, неизменно возвращают нас обратно к исчерпывающей знаковости фильма «Матрица». Где даже бунт запрограмирован. Бунт – это тоже по-своему приятный элемент одной и той же игры.
Стихи Егора Летова – полны нестерпимости. Сквозь циничные, неловкие, непоэтические строки ощущается безудержная вибрация застывшего немого крика на одной ноте. Это нота протеста. Но все равно это только –
Игра в одни ворота
Осенняя муха хлынула к форточке
Словно крысиное полчище к сахарной дудочке
Словно снегурочка к пылкому свадебному костру
Словно бумажный кораблик к апрельскому водовороту
Словно наш брат к ослепительной
Амбразуре.
(Егор Летов «Игра в одни ворота» 5.05.93)
Если даже героически выбрать трудную долю поэта, судьбу-борьбу, это все равно будет только игрой, игрой в одни ворота. Потому что судьба современных непокорных маргиналов, создающих вокруг себя зону постоянного кораблекрушения (по Ортеге-и-Гассету), также функциональна и эргономична в этом миропорядке. Причем, чем более непокорно и маргинально их поведение, тем больший «социальный эффект» оно имеет. («И его «бунт» был дорого оценен и немедленно оплачен»). Их мир всегда остается «особым адком эстетичным», по словам поэта Алины Витухновской.
Поэты, как осенние мухи, рвутся к раскрытой им форточке, ностальгируют по Соловкам, жаждут, истомившиеся, тюрьмы и гонений – Ослепительной Амбразуры. Они хотят Ада, а их потчуют адком. Некоторых из них, самых везучих, даже пускают иногда посидеть в тюрьме, чтоб было о чем вспоминать на старости лет.
А те из читателей, что также несогласны – несогласны-ы-ы! – тоже получают по потребности – например, свободно покричать на санкционированном митинге: «Свободу попугаям!» – и слиться в блаженном чувстве единения, удовлетворяясь, помножая несвободу на несвободу.
Представляется невозможным выбраться из этой отвратительной западни (или зАпадни?) силами реальности.
На каком тайном языке должно быть произнесено заклинание, разрушающее эти райские чары?
Скрижиталь. Эскиз с натуры
Одна пожилая дама в книжном магазине спрашивает продавца:
«Есть у вас эта «Сапфировая скри… скрижиталь»?
(С натуры)
Синуэ Ж. «Сапфировая скрижаль»
Описание:
«..Перед смертью посвященный в сакральное знание иудей Абен Баруэль успел сделать лишь одно – послать ТРИ ПИСЬМА трем АБСОЛЮТНО РАЗНЫМ ЛЮДЯМ, связанным лишь жаждой поисков Высшей Истины. В каждом из писем зашифрована часть могущественной духовной тайны – тайны местонахождения священной сапфировой скрижали Еноха, которая должна привести людей к постижению Вечного… Еврейскому рабби помогут в расшифровке Тора и Талмуд… Мусульманскому шейху – Коран… Францисканскому монаху – Библия… Но по следу искателей сапфировой Скрижали, не отставая ни на шаг, идут иные искатели – агенты Инквизиции…
Путь к священной Тайне открыт!..» (с сайта OZON.ru)
Все то эзотерическое, мистическое, этническое, психоделическое, что можно получить от искусства, потребляется сейчас за милую душу так же, как тофу, саке и суши. Как будто бы все в этой реальности, что можно было потребить, уже сожрано и мы, ничтоже сумняшеся, принимаемся за потусторонние миры. Путь к священной тайне открыт! Мы идем в фитнес-центр учиться мистическому танцу дервишей, на сеансе холотропного дыхания разгадываем тайну своего зачатия, наши сны дешифрованы психоаналитиком, мы умеем обмениваться позитивной энергией в клубе, где танцуют босиком, а самая популярная вера для нас – вера в реинкарнацию. Мы хотим параллельных реальностей. Мы ищем простого и безопасного способа пожить более полной чем жизнь офисного работника жизнью. И нам наперебой предлагают такие услуги:
Вторая точка FOLKоворота: 1 ноября
Самайн. Праздник Открытия Врат
Самайн, кельтский Новый Год, у славян – Осенние Деды и период Предзимья, во всех северноевропейских традициях почитался как магическое время перехода, время соединения миров живых и мира мертвых, точка встречи с Силами, момент откровений Судьбы.
На эту точку FOLKоворот собирает вместе музыкальные команды, работающие с мистической, трансформационной музыкой. Алхимический рок от «Оргии праведников», проникнутый средневековым магизмом утяжеленный фентези-рок от «The Hobbit Shire», песни о Богах, Предках и Силе от группы «Календарь», «чёрное» русское скоморошье от группы "Злыдота». Мы попробуем повести вас по Мосту Между Мирами.
Афиши альтернативных культурных направлений дергают нас за те же веревочки, что и заставки новых компьютерных игр. Почти все из названий, представленных на этой афише, видятся нам понятными и даже приятными нашему слуху. К примеру, первое бросающееся в глаза «The Hobbit Shire» открывает целый портал восприятия – уже «родной» для нас мир «Властелина колец», в котором нам знаком каждый уголок (кто из современных людей не сможет найти дорогу из Шира в Гондор, из Рохана в Морию?). А творчество группы «The Hobbit Shire» просто присасывается к этому пространству, заранее вписывает себя в заведомо определенные ожидания слушателей.
Да и романтическая мрачность средневековых замков и неистовая праведность католических монахов с их стигматами и одержимостью нам – постиндустриальным и постисторическим русским людям – странным образом более знакома и близка, чем посконное православие наших ничем, кроме столпничества и общения с медведями, не примечательных преподобных. Католическое христианство для большинства из нас это – молот ведьм, суккубы, игривые «непорочные» зачатия и соблазнительно порочные готические соборы, фильмы ужасов, мандрагора и рыцарские турниры, алхимические лаборатории с сиреневым маревом и бульканьем в перегонном кубе, черные и белые маги…
Это в принципе та романтическая историосфера, которая эксплуатируется масскультом уже множество лет. Готика. А потому название «Оргия праведников» вкупе с аннотациями: «средневековый магизм, алхимический рок», заставляет наше восприятие в лучшем случае зазвучать на манер оргАна, а в худшем – вспомнить самые органические подробности готической монастырской жизни. К тому же, песня «Луна над Кармелем» С.Калугина (лидера группы «Оргия праведников»), которая считается кульминацией его творчества, завершается примечанием о том, что «в финале песни использованы фрагменты 17-го псалма и стихотворения испанского монаха и поэта-мистика XVI в. Св. Иоанна Креста». А сам альбом, в котором звучит эта песня, носит название «Нигредо».
Этот, так открыто брошенный в толпу алхимический термин также вписывает «Оргию» в узнаваемую формулу, мгновенно открывает в нашем сознании «активное диалоговое окно». Но это (независимо от лучших побуждений автора) уже не окно в мир сокровенного знания, в мир истины, в мир тайны мистического брака, о котором поется, – это окно в уже обжитое и атрибутированное пространство. А сейчас это легендарное пространство узурпированно ни кем иным, как Гарри Поттером – вот кто в наше время владеет монополией на средневековый магизм, на драконов и зАмки, на философский камень и орден феникса!
И группа «Календарь» («песни о богах, предках и силе») попадает своим контекстом в уже заселенную «анимационными персонажами» виртуальную местность – да, для многих из тех, кто ищет истоков, само понятие «календарь» наполнено огромным смыслом, но даже наши мечты о героическом прошлом уже загажены фальшивыми «волкодавами», «ведунами», «троецарствиями». Как не чувствовать в этом победу пластмассового мира?
Везде мы слышим этот отвратительный скрежет.
Но вдруг в воздухе что-то меняется. Ведущая Кельтского Самайна с нескрываемым недоумением представляет публике гетическую группу «Злыдота» – О-о! Ничего атрактантного. «Не готическую, а гетическую…», – еще раз удивленно подчеркивает она. Конечно, распаленной публике это уточнение уже не так важно. Выступление «Злыдоты» проходит на ура. Хотя скоморошья скороговорка и древнерусский акцент все равно не дают возможности распознать здесь смысла песен. И откуда-то сбоку, сквозь крики «Еще! Еще!» вслед покидающим сцену музыкантам, слышится одинокий возглас: «жесть!…».
Да, это не милые добрые хоббиты, не сусально-сакральные пасторали среднерусской возвышенности, не утонченность готических рыцарей. Это действительно… жесть какая-то! Здесь почему-то оказывается несостоятельной главная, всепоглощающая формула современной культуры «Take it easy», которой почти ничто не может противостоять. В самом этом гадком злыдотном слове ощущается какая-то несусветная тяжесть.
Но для тех, кто больше не может выносить легкости бытия, но ощущает тягость мира, не здесь ли таится то самое вожделенное настоящее?
Сознание при осмыслении этого слова «злыдота», не находит почти никаких «активных ссылок», кроме «злобы», помноженной, то ли на ее количество, то ли на ее онтологичность (сравним: бедняк – беднота, гопник – гопота). Это слово помимо обыкновенного земного зла, несет в себе множество отвратительных оттенков, это и темнота, и пустота, и блевота, и выпучненные глаза почему-то, и фанатичная оголтелость.
Может быть, это и субъективные ощущения, но здесь веет какой-то вселенской жутью. Оно похоже на слово «завоил» из рассказа А. Вампилова «Сумочка к ребру»! Если вы помните, Вампилов описывает один день из жизни литературного консультанта одного из журналов. Отрывок вспоминается просто дословно: «К концу дня его нервы находились, кажется, вне всякой системы. Владимир Павлович развернул бумажку. Неведомый автор предлагал стихотворение, которое начиналось так:
Из подворотни выбрел пес лохматый
И вдруг завоил, словно не к добру.
Подкрадывался сумрак бородатый,
Подвязывая сумочку к ребру
«Что это? – подумал Владимир Павлович, – чувствуя, что ему становится не по себе. – Какую сумочку? К какому ребру?»
Владимир Павлович прочел это еще раз, попробовал хихикнуть, но смех вышел таким, что он сам его испугался. Он быстро оделся и поспешно покинул пустой кабинет. По дороге домой Владимир Павлович держался многолюдных и освещенных мест. Странное четверостишие не давало покоя. Темный коридор он прошел быстро и с таким чувством, что его вот-вот ударят по голове чем-нибудь жестким и тяжелым. Войдя в свою квартиру, он запер за собой дверь.
Жена сидела на диване и вышивала что-то болгарским крестом. Владимир Павлович заговорил шепотом:
- Маша, у нас никого нет?
- Никого. А что?
- Вот! – Владимир Павлович вынул из папки конверт и осторожно, словно это была бутыль с негашеной известью, передал его жене. – Прочти. Только… Ребенок спит? Спит? Тогда прочти… Нет-нет, не надо вслух.
- Ничего особенного, – сказала хладнокровная жена, прочитав. – «сумрак бородатый» – хорошо, а вообще несколько туманно…
- Несколько? – перебил Владимир Павлович, нервозно вздрагивая. – Это черт знает что: «Завоил!» – какое адское слово. Всё встречалось: поэтические вольности, охотничьи рассказы, шаманские могилы, но такого… Нет-нет! Это что-то жуткое… А я все-таки человек рядовой, с ограниченным воображением, у меня ребенок, еще могут быть дети… Нет, я не могу!».
Вот оно – действие которого мы должны ожидать от искусства, противостоящего обществу потребления, пластмассовому миру. Если после прочтения стихотворения, книги, просмотра фильма, пребывания на концерте, на акции протеста, на Правом марше и т.п. гражданин с обновленными силами приступает к своим обязанностям топ-менеджера, а не дрожит в припадке ужаса как вышеописанный Владимир Павлович – то ничто из того не имеет смысла.
В своем коротком рассказе А. Вампилов будто бы прозревает образование литературного направления последних времен – метафизического реализма. «Метафизический реализм – пишет его основатель Ю. Мамлеев, – исходит из относительной исчерпанности социально-психологической стороны человека в мировой литературе и предполагает проникновение в те самые глубины человеческой души, которые смогут даже изменить наше представление о человеке. Фактически речь идет о проблемах расширения реальности. Слово «реализм» здесь не случайно: во-первых, метареализм предполагает вполне реалистическое описание обыденной жизни, но с присутсвием в нем метафизических реалий. Но главное – сами эти метафизические реалии не могут и не должны быть результатом игры воображения или фантастики.
Эти «реалии» почерпываются: а) из того океана опыта и знаний о невидимом мире, которое приобрело человечество за свою историю, б) путем той способности, которую Рене Генон определил как интеллектуальная интуиция… Метафизические воззрения с убеждающей силой присутствовали в древней традиционной литературе (особенно в поэзии), нередко в форме так называемых мифов… Метареализм не возвращает человека, например, в античный мир или в другой подобный (в традиционалистском смысле) период. В нем ориентация на современный мир, с его катаклизмами, войнами и раздирающими противоречиями, сочетается с иными, присущими новому тысячелетию, поисками духовного бытия. Метареализм обращен в будущее, а не в прошлое».
Что же это такое «Злыдота»? В свете всего вышесказанного? Какое отношение к ней все это (включая метареализм) имеет?
Из официальных источников:
«Злыдота – название крайне загадочной организации из культового романа классика серебряного века Пимена Карпова о мистической жизни русского крестьянства. Основатель группы, Олег Фомин, обращаясь к протославянской музыкальной эстетике, определяет стиль Злыдоты как гетику. Исследуя добаховскую музыкальную традицию, он вскрыл целый ряд ладовых, мелодических и гармонических принципов, которые и были применены в Злыдоте. Результатом стал сплав плясовых скоморошин, гуслярских попевок, античных мелосов, средневековой православной церковной музыки и хлыстовско-скопческих «розпевцев». Буквальных аналогов этому направлению нет. Впрочем, иногда его сравнивают с готикой, этериалом или дарк-фолком на русской почве. Ряд инструментов был придуман идеологом группы Олегом Фоминым в качестве вариаций на тему средневековых и древних инструментов, а исполнен известным мастером по дереву, фольклористом и музыкантом Виталием Галицким (группа «Русичи»).
Большая часть текстов песен написана Олегом Фоминым (лингвистом по образованию) на церковнославянском и древнерусском, а также псевдо-арийском. Помимо этого, некоторые песни написаны на слова известных авангардно-консервативных поэтов Владимира Карпца и Владимира Микушевича. Злыдота как группа — всего лишь «вершина айсберга». Слушатель, приходя на концерт, видит древнерусские костюмы, расшитые рунами, световыми роженицами и «кержаками», хоругви с магической картографией и сакральными календарями, восстановленные народным мастером России этнографом Владимиром Теплышевым, слышит старинные инструменты — гусли, лютню, колесную лиру, гудок, осмысливает церковнославянские стихи, ими же изложена причудливая мифология, где слиты воедино дохристианская традиция и старообрядчество, архаические культы и древнерусская алхимия. Но за всем этим «явным» скрывается целая концептуальная вселенная: годы исследований, лекции, выпущенные статьи, книги, вышивка, эксперименты по созданию новых музыкальных инструментов. Такой широкий спектр деятельности обусловил редкость собственно концертов, которых за всю историю группы было не слишком много».
Разберемся с главным героем: Олег Фомин, предводитель «Злыдоты». Кроме того, что он сочинитель и исполнитель музыки и текстов, из интернета мы узнаем также, что он автор книг «Священная Артания» и «Сакральная триада», издатель и главный редактор литературного альманаха «Бронзовый век», «современный русский философ, издатель, композитор, писатель, художник, поэт, переводчик. Ученик В.Б. Микушевича, Е.В. Головина и Ю.Н. Стефанова». Но самое интересное то, что он сам себя, специально или нет, делает метареалистическим героем (вот к чему разговор о метареализме!). К примеру, из автобиографической повести «Там, за Северным, на Звезде», напечатанной в 24 номере «Бронзового века» (в 2006 году), нам становится известно, что подобно сказочному Иванушке Фомин живет с бабушкой и дедушкой. Может быть, он и не из плоти и крови вовсе, а получился из теста, там, или из полешка, запеленутого в платочек. Бабушка долго-долго качала полешко в люлечке и напевала волшебную песню и вот… Но в повести «Там, за Северным, на Звезде» утверждается, что «никакого Иванова (т.е. Иванушкиного! – Н.Д.) детства не было. Было «Детство Фомина». Мифологическое проникновение, следовательно, здесь мы можем только домысливать. «Когда Фомин родился (значит, он все-таки родился), он, как и положено, получил шлепка по мягкому месту», ребенок заорал, тоже как положено, что намеренно подчеркивается Фоминым. А дальше происходит необъяснимое с точки зрения реализма автобиографической повести, но вполне закономерное для метафизического реализма, явление: «Однако от родов, опять-таки, как и положено, осталась пуповина. И бабушка маленького Фомина, не взирая на протест врачей, вытребовала пуповину в личное распоряжение, объяснив, что «для опытов». От деда она, напротив, ничего не скрыла: «Пусть у него братик будет. А то ведь одиноко. Мы его, конечно, любим. Но братик есть братик».
«Таким образом, маленький Фомин обзавелся близнецом. Но до поры об этом не знал. Пуповину бабушка тщательно промыла, затем смазала жиром и положила в глиняный горшок, засыпав доверху золой».
Здесь «метафизическая реалия» берется от существовавших некогда обрядов, связанных с «похоронами» последа (плаценты) и, наоборот, хранением пуповины. Плацента после рождения действительно считалась неким двойником ребенка, ведь это орган, растущий вместе с плодом и только для него в утробе и рождающийся вслед за ним, но в то же время послед – это двойник из нездешнего мира. Послед хоронили в нехоженном месте, чаще под углом дома или под деревом. В случае если жизнь человека шла наперекосяк, его иногда «перераживали», заставляя пролезть через юбку на месте, где закопан послед. А вот пуповину действительно сохраняли. Считалось, что пуповиной был связан ум ребенка – поэтому в возрасте от трех до семи лет ее давали ребенку развязать после чего он терял священное целостное знание о мире и приобретал знание мирское.
В наше время традиция сохранения пуповины и «развязывания ума» спорадически возобновляется. Даже современный ребенок, развязавший свою пуповину, выглядит гением на фоне обычных детей – в течение двух недель после проведения обряда проявляются способности к музыке, игре почти на всех музыкальных инструментах, рисованию, появляется феноменальная память и т.д. Нам непонятно, какой именно обряд описывает здесь Фомин, который может просто путать пуповину с плацентой. Но в любом случае – осталась ли плацента не закопанной (т.е. потусторонний двойник не был погребен и действительно имеет место быть и пишет рассказы под именем Ивана Ночнина в книге «Священная Артания») или же пуповина осталась сохраненной, но неразвязанной, т.е. сакральное знание о мире Фомину доступно более других – в любом случае Фомин предстает перед нами уже не интеллигентом с блокнотом, на котором ручкой подписано «Главные тайны» (как в рассказе Мамлеева), а человеком, способным спонтанно изрекать эти главные тайны.
Злыдота. Контексты
Как явление не легкое, творчество группы «Злыдота» осуществлено в весьма разветвленной сети контекстов.
Во-первых, это книги самого Фомина. И в первую очередь «Священная Артания». В песнях «Злыдоты» в предельно сжатом виде отображается ее содержание. Основная идея высказанная и доказанная в этой книге заключается в том, что таинственная Артания упоминавшаяся в древних хрониках, которую до этого тщетно искали ученые, находится в междуречье Оки и Волги. Племя, населявшее Артанию, называлось русами-урсами-арсами и отличались они от славянских племен не в национальном смысле, а в своем предназначении. Это было племя воинов и одновременно волхвов. Становились русами все те, «кем двигала пассионарная воля к созданию империи».
Те мысли, что заявлены в этой книге, образуют собой стройную систему «философии пространства», о которой сам О. Фомин говорит так: «любую географическую протяженность можно представить как схематический круг с полюсами солнцестояния (север и юг) и равноденствия (запад и восток), также очевидным образом обнаруживаются центр и периферия. Зная из компаративной Традиции символизм географических направлений… можно создать идеально-качественную карту пространственной протяженности, которая, будучи наложенной на карту актуальную, с учетом ландшафта (включая продукты человеческой деятельности), топонимики, легенд, истории, – даст возможность «читать пространство» как связный мифологический текст. На «круг земной» возможно спроецировать и другие универсальные формы – сущности, субстанции, фонемы, зодиак, рунический круг, герметические начала, что также дает дополнительные возможности для «чтения»».
Это – наследование не столько поэтического направления Н. Клюева, сколько мировоззренческих и духовных мотивов клюевского творчества, его «Белой Индии» и т.п. «Священная Артания» – «взыскание Светлого Града» – сакральное краеведение, а главный инструмент в научных изысканиях – язык, то есть так называемое народное корнесловие или фонетическая кабала (не иудейская каббала), которую в научном мире не признают, называя ее «ложной этимологией».
Восторг охватывает читателя «Священной Артании» при «открытии» всё новых и новых словесных соответствий, необычные названия окрестных деревень, своеобразие ландшафта приобретают смысл, а в стихах (песнях) всё это и вовсе облечено в заклинательную форму. Повествование в книге, как и в песнях, строится на многочисленных анаграммах слова «Артания». В некоторых песнях также воспроизводятся мифологические сюжеты, связанные с Артанией.
Но многие песни «Злыдоты» остаются непонятными даже после прочтения «Священной Артании», даже после подробных авторских пояснений: двуперстные «Сирски писмены», беспоповское правило «Гроб деревянной», древнеарийский эпос «Русские сны» и пасхальное песнопение «Час чаши», а также ставшие уже любимыми исповедь мелюзины-кукушки «Летучее серебро», сказ о птицерыбе «Арсамаки» (говори да приговаривай!), проповедь часовенного с копытом «Поучение от зайца», сарматское стояние «Красный дар», перебранка гностического спасителя с женой-самаряныней «Колодец герметикум», евразийское славословие «Арта-Кристосо», и конечно же, культовое шатание «Баташов и злыдота».
Непонятны потому, что требуют еще более широкого контекста. И этот контекст – А.Г. Дугин – «современный русский философ-традиционалист, политолог, публицист. Лидер Международного «Евразийского движения».Православный (единоверец – старообрядческое согласие, приемлющее священство Московского Патриархата). Стоял у истоков НБП (вместе с Э. Лимоновым и Е. Летовым). Основатель неоевразийства. Автор множества книг. Те, кто смотрят телевидение, знают этого человека в лицо, но не многие догадываются о том насколько всеобъемлюща эта культовая личность. Впрочем, даже перечисление названий некоторых его трудов скажет нам о многом: «Пути абсолюта», «Конспирология», «Гиперборейская теория», «Русская Вещь», «Эволюция парадигмальных оснований науки», «Философия Традиционализма», «Философия политики», «Философия войны», «Поп-культура и знаки времени».
Итак, понимать смысл названия «Злыдота», взятое из романа «Пламень» Пимена Карпова, нужно именно исходя из статьи «Кровушка матушка» А. Дугина, посвященной анализу этого малоизвестного романа. «Имя Пимена Карпова прочно отсутствует в нашей культуре», – пишет А. Дугин. Феофан – главарь Злыдоты, был благочестивым отшельником, но когда столкнулся с несправедливостью (Бог не услышал его молитвы об умирающих детях), он по-своему решил для себя эту вечную проблему со слезинкой ребенка – встает на путь страданий, мучений, предельного греха. «Он сочетает в себе крайнее зло и крайнюю святость. В этом – смысл гностической традиции, «путь левой руки» (как называет это индуизм). Неудивительно, что «путь тягости» сопрягается и с сексуальными ритуалами, это погружение в «низины».
«Внешне, – пишет А. Дугин, – роман «Пламень» – нагромождение мракобесия, кровавых преступлений, исступленного садомазохизма, перверсий, смертей, гниений, черных месс, святотатств и ничем не оправданной танатофилии… всё это наползает друг на друга в бесконечном количестве до конца романа, игнорируя сюжет, последовательность, логику». Как литературное произведение, этот роман ничего из себя не представляет, но автор вкладывает туда «уникальное эзотерическое послание, грандиозный гностический миф… описывает секретные ритуалы – постановку «великой печати» скопческой бритвой, выжигание собственных глаз гностиками «внутреннего пути», женские распятия и коллективные оргии русских тантристов и т.д. Но во всём этом главную роль играет Кровь. Кровь в традиции считается главным жизненным началом… отношение к крови… окружено многими запретами, табу» .
В культурном пространстве современного мира кровь обесценена, так же, как и смерть. Постоянно эксплуатируемые, они стали лишь спецэффектами и в своем материальном «непретворенном» виде не имеют больше трансформирующего, катарсического значения. Поэтому никакой ожидаемой нами крови, никакого демонстративного садо-мазо в самих стихах и песнях Олега Фомина и его соавторов нет. Наоборот, всё сделано по принципу изготовления гомеопатического средства – каплю вещества последовательно расворяют во всё больших и больших количествах воды или спирта, каждый раз производя энергичное встряхивание. Готовое средство не имеет в своем составе ни одной молекулы вещества, то есть ничего видимого от него не остается. Остается только одна невидимая динамическая, то есть способная активно воздействовать сущность.
В песнях «Злыдоты» пименкарповская кровушка-матушка, растворяясь до исчезновения, динамизируясь музыкой, незримо присутствует в своем самом действенном виде, присутствует именно как контекст. Множество мотивов и ассоциаций, заложенных в тексты песен, находится в них в таком же «гомеопатическом» разведении. В музыке Олег Фомин следует «добаховской русской музыкальной традиции», которая совсем не похожа на классическую музыку. Крюковая нотная запись и знаменное пение отличается от привычной нам современной нотной записи тем, что в современных нотах вся последовательность событий статична закреплена раз и навсегда. Тогда как в крюках – особенно в древних вариантах намечена только канва мелодии, ноты там зачастую вообще не указаны. А певец воспроизводит мелодию руководствуясь как нитью Ариадны – зрительным образом этой условной записи, непечатной, передаваемой из уст в уста традицией и собственным переживанием религиозного события. Также мы не увидим ожидаемой нами, и привычной нам, поэзии в песнях «Злыдоты». Для сравнения сопоставим похожие по смыслу (в данном случае смысл может быть определен только нашим собственным чувством пракорней и «интеллектуальной интуицией») песни О. Фомина «Арта-Кристосо» и С. Калугина «Луна над Кармелем»:
Арта-Кристосо
Ой, Арта, Арта! Велесо Артасо.
Ой, Кристо, Кристо! Кристосо Артасо.
Кристо, Кристо! Артасо, Артасо.
Ар-мордван Урдан Буртас Артасо.
Лю-ли, лю-ли, ар-мордван Кристосо!
Барма Тир, Урал-Рифэй Артасо.
Хамса Кристосо Арса, Артасо.
Лю-ли, лю-ли! Ой, Мурма Кристосо!
Сколо Таргитай в мургет тисарей.
Балх и колх и арта-мосх Талалей.
Урсу соло Азован Артасо.
Агатирс на Гусь везе колесо.
Соло-соло, колесо-колесо.
Бар-бархан у кола сти Артасо.
Ме побаче жив Хамса Кристосо!
Ир на вер по Ре, где сте Кристосо!
Ой, Арта, Арта! Верес водекрес!
Кристо, Кристо, Кристосо водекрес!
Луна над Кармелем (отрывок)
У излучины мертвой реки,
Тростниковою флейтой на черном песке
Мной начертана ветвь олеандра
Бьется пламя в пентакле меандра-
Прочь! В этом пламени – морока плен,
Это магия рвется из рук,
Трепеща в переливах сапфира
Ночь! Адаманты на черном крыле
Путь изогнут, как царственный лук,
Пронизай средоточие мира!..
Раскаленною точкой в луче
Приближайся к чертогу
Твой Жених полон страсти и ждет,
Ты стремителен, ты у ворот,
Ты шел к обретенью!
Беспощаден полет,
Как томительно-сладко бы было
Отдаться паденью,
Убежать, раствориться в животном тепле,
На века позабывши о Том,
Кто возлюблен,
Чей лик – за покровами тьмы,
В Ослепительном Мраке...
Мальчик, начни продвиженье во мгле.
Стань стрелою, пробившей доспех,
будь свиреп и бесстрашен в атаке -
О слиянье в мистическом браке!
Свет! Распаденье сферических тел,
И космический ветер взорвал твою грудь
Клочья снов разметав по вселенной!
В Свет, за отмеренный твари предел!
Обнажилась предмирная суть -
Ты есть Он, только Он Изреченный...
Мы видим, что в стихотворении С. Калугина речь идет о реке-пути, о соблазне, о мистичеком браке – слиянии с Божеством. Но нас сразу удивляет многословие (это ведь лишь отрывок), с которым всё это высказанно, к тому же, несмотря на метафоры, всё звучит слишком прямолинейно, так не говорят о тайном и мистическом (иначе это начинает попахивать профанацией). Есть в этом что-то карамельное.
Хотя кто-то может возразить нам, заметив, что С. Калугин следует вполне классической традиции стихосложения, а вот, Олег Фомин выпендривается самым тенденциознейшим постмодернизмом. В постмодернизме – вся и цель в том, что когда сказать уже более нечего, говорится это «ничто» так, чтобы за сказанным никто ничего не заметил. Всё в постмодернизме – как в сказке про голого короля: веришь только потому, что боишься показаться глупцом. Но обвинение в постмодернизме, в данном случае, это может быть вовсе не обвинение, а похвала. Потому что если недолго думая применить на практике круговую систему координат, предложенную О. Фоминым, то мы без труда найдем то историческое место, в котором в данный момент находимся. И в котором соответсвенно находится «постмодерн».
На нашей воображаемой Mapa Mundi постмодерн – это самый низ круга, пространство разложения и распада, где всё уже закончилось. Получается, что есть два постмодерна. Постмодерн конца: «Вскоре появилось переведенное на восемнадцать языков, прогремевшее на весь мир его эссе о мастурбации младенцев в утробе матери. Это эссе публиковалось в самых элитарных журналах. Спустя полгода возникла его поэма «Бе-бе-бе», состоящая только из комбинации этих звуков. Газеты восторженно известили, что эта поэма знаменует конец литературы». И постмодерн предначала, где еще ничего не началось, хотя по форме это может быть то же «Бе-бе-бе». Низ годового круга – это таинственное пространство между зимой и весной, время, не включенное в числовой календарь, когда один год уже кончился, а другой еще не начался, это священное во всех традициях время, «время богов», святки и т.д. Это время гаданий или время Ляпунова.
«Скоморохи – жрецы постмодерна» (а то, что Олег Фомин – скоморох, не вызывает сомнений – Н.Д), – говорит А. Дугин, подтверждая свой вывод размышлениями: «Все современное искусство в христианской и постхристианской цивилизации развилось из некоего общего комплекса, в котором сосредоточивалось наследие дохристианского – «языческого» – религиозного и эзотерического культа. В Европе это была культура труверов или миннезингеров. На Руси главным братством такого рода после окончательного искоренения волхвов и их традиций стали скоморохи, «веселые люди»… все элементы их деятельности были объединены общим сакральным знанием космологического порядка – их шутки, даже самые грубые, были формой изложения символической доктрины, пляски представляли собой теургические магические жесты, в своих песнях они передавали инициатические секреты… при этом сами они, и их зрители впадали в состояние транса, т.е. особого духовного настроя (прелести), в котором ясно ощущается присутствие потустороннего мира».
Попытки воспроизвести нечто подобное, кстати говоря, предпринимались и писателями Серебряного Века. Например, Александр Панченко в своей книге о хлыстах и скопцах пишет о том, как «заключительным аккордом в истории метаморфоз легенды о кровавой жертве у русских мистических сектантов стала имитация радения, совершенная 5 мая 1905 г. Вячеславом Ивановым, Бердяевым, Ремизовым, Розановым, Сологубом и др. на квартире Николая Минского. «…Было решено произвести собрание, где бы Богу послужили, порадели, каждый по пониманию своему, но «вкупе»… Собраться решено в полуночи… и производить ритмические движения для расположения и возбуждения религиозного состояния… Гости сидели на полу, погасив огни. «Потом стали кружиться, – сообщал Е. Иванов, подчеркивая ключевое слово… Потом Вячеслав Иванов… поставил посреди комнаты «жертву», добровольно вызвавшегося на эту роль музыканта С. Этот С. был… «блондин-еврей, красивый, некрещеный»… После некоторой имитации крестных мук «(Вячеслав) Иванов с женой разрезали ему жилу под ладонью у пульса, и кровь в чашу…». Кровь музыканта смешали с вином и выпили, обнося чашу по кругу; закончилось всё «братским целованием». Такие собрания, сообщал Е. Иванов, будут повторяться»». Интересно, что, например, Н. Клюева, «носителя» подобных традиций, на этом собрании не было. Такие радения выглядят фарсом, несмотря на искреннее старание каждого из участников.
В одной из своих лекций А. Дугин предложил введение нового термина «археомодерн». Он утверждает, что постмодерна в России нет и быть не может, потому что постмодерн следует за модерном. А в России нет и не было модерна. Археомодерн, по Дугину, – это та ситуация, когда происходит наложение киригмы (модерна) на структуру (архео) без возникновения между ними логических связей. Дугин использует термин «киригма» или «керигма» не в религиозном, а в философском смысле, этимологически это слово означает – публично проповедовать, возвещать какое-либо важное учение. В философском смысле, этот термин начинает обозначать, так сказать, любую «рукотворную» систему представлений о мире, без разницы – христианскую, будистскую, марксистскую… А вот, под термином «структура» Дугин предполагает всё то, что, включая и киригму, никогда никем не описывается и часто даже не озвучивается – всю полноту восприятия мира (т.е. структура в структуралистском понимании этого слова). Проще всего это понять, как нам кажется, на примере известного рисунка-загадки: ты можешь увидеть на нем или только амфору или только два профиля. Где амфора или профили будут керигмой, а вся картинка целиком структурой. А то, почему возникает это разделение, соответственно – рассудком.
Археомодерн Дугин называет болезнью, которую надо лечить. И понятно, что двигаться нам нужно не в сторону чистого модерна, а в сторону чистого архео.
Несомненно, что своим творчеством группа «Злыдота» не керигматически (через лекции или статьи), а именно архаическим способом пытается восстановить архео-структуру. Но нам, чтобы отпустить себя на волю полноты нерассудочного понимания, нужно применить не только «интеллектуальную интуицию», нам потребуются и другие специальные знания, например исследования о праязыке Германа Вирта, о которых А. Дугиным была когда-то прочитана лекция в Новом Университете: «В отношении структуры изначального языка Вирт был сторонником агглютинативной теории, то есть считал, что слова складываются из законченных фрагментов — слогов. К слогу, который означает что-то, присоединяется другой, означающий еще что-то — получается слово. Такая структура свойственна шумерскому языку. Иначе слово образуется во флексивных языках. Берется какой-то один неизменный элемент языка, и вся дальнейшая работа ведется только с парадигмой этого слова, без концептуальных добавлений. Все современные языки являются флексивными. Примордиальный же язык был аглютинативным.
Таким образом, если мы восстановим некоторые закономерности сочетания гласных и согласных, характерные для изначального нордического языка, мы получим нечто большее, чем просто слоги в современном понимании.
Так вот, полученные звуки, фонемы, таким образом, приобретают не связанную с конкретикой исторического языка, абсолютную семантику. Каждый звук, каждая фонема что-то значит сама по себе, независимо от того, как она используется в реально существующем языке. Это потрясающее открытие! Ведь если это так, если звук имеет свой собственный универсальный смысл, то язык становится не просто инструментом передачи информации, отныне он сам — информация, причем, высшая, абсолютная информация...»
Только не нужно пытаться перевести «Сирски писмены» «Злыдоты» на русский. В песне «Арсамаки» есть мифологический образ «птицерыба», который метареалистически возникает и в романе В. Микушевича «Воскресение в Третьем Риме», когда один из героев вылавливает в реке такую птицерыбу (щуку с вцепившейся ей в спину утонувшей совой). Это соединение несоединимого, преодоление логического закона «рожденный ползать летать не может».
Но на страницах «Воскресения в Третьем Риме» встречается не только химера птицерыбы, но и некто очень похожий на самого О. Фомина, а именно Демьян Чудотворцев: «У Чудотворцева был бас, которому доступны очень высокие, едва ли не теноровые ноты. Другой певец не удержался бы от соблазна щегольнуть широтой своего диапазона, но Чудотворцев как бы весь исчезал в стихии музыки, переставал существовать, как отдельное актерское «я». Удивительной особенностью его пения была непостижимая способность петь верхние и нижние ноты одновременно… Голос Чудотворцева доносился как бы издали, даже если он стоял прямо перед вами. При этом он не пел отдельные ноты, он пел сразу всё произведение, чем манера его исполнения разительно отличалась от итальянского бельканто».
Это очень точное описание манеры пения О. Фомина. Интересно, что коллизия сюжета такова, что Платон Чудотворцев, биографию которого представляет собой роман «Воскресение в Третьем Риме», это сын певца Демьяна Чудотворцева и Натальи Темляковой, которая принадлежит к раскольничьему Спасову согласию («из Согласья Спасова, Семя Китоврасово» см. песню «Баташов и Злыдота»). Но еще более интересно то, что не совсем понятно, от какого соития появляется это дитя – реального или мистического. Свадьбе Натальи и Демона (как она сама его называет) предшествует его близкая дружба с постановщиком балетов и опер Мефодием Орлякиным, также происходящим из старообрядческого купечества, который называет Демьяна «моя Тамара» и хозяйским жестом гладит его по волосам. Мефодий Орлякин – неоднозначный персонаж, который сам называет себя Арлекином («А чем я не суфийский учитель? «Спутанная речь…» Вот она, метода в безумии! Я вертящийся дервиш») – не он ли также в какой-то степени становится «отцом» ребенка, которого по его же настоянию называют Платоном «как следовало по святцам, но, очевидно, и в память о «платонической» любви Арлекина к Демону». А Платон Демьянович Чудотворцев, впоследствии напишет секретный труд под названием «Гений Сталина» или «Оправдание зла».
Несколько демоническая фигура О. Фомина порождает «Злыдоту». И «Злыдота» как ответ пластмассовому раю звучит: «Ну раз так – Зло тады!»
Всё тому, кто одолеет...
Все говорят, что мы вместе.
Все говорят, но не многие знают в каком…
(В. Цой «Кино»)
Одно из произведений О. Фомина – народная опера «Баташов и злыдота». «Наконец-то «Баташов и злыдота», – пишет О. Фомин, – почти полностью готова. Ничего подобного никогда не было. С одной стороны, это, конечно, наследование традиции Мусоргского — Римского-Корсакова — Стравинского. Но, с другой, — полный отказ от симфонических инструментов. Только народное. Причем архаическое».
Сам автор, правда, не совсем официально (в форумном обсуждении), так в общих чертах трактует смысл своей народной оперы: «Задницу-всадницу (образ каждого человека) пытаются за ее проказы, бражничество, брадобритие, голое скакание, конокрадство и (в том числе) содом посадить в подвал на сто лестовок и одну луковицу в день. Но даже этого оказывается недостаточно. Тогда отец Потап стал ее кропить святой водою, и она, как ошпаренная, бежала. Однако была поймана людьми Баташова, которые приводят ее к барину на очистительную пытку. Ж… замучили до полусмерти клещами в Саду СтраховЪ, а после этого Баташов светло и осиянно убил ее, пожелав ей обретения Рая, а затем и сам принялся молиться о спасении своей души, надеясь попасть в рай по молитвам своих жертв, которых он туда отправил вперед себя как своих заступников. После этого хор сущего поет славу, объявляя расправу над людьми (над бражницами). Затем начинается продолжительная молитва "небесному палачу" за души "сгинувших клетей и темниц"».
Но не можем же мы и вправду подумать, что все действо сводится к простому морализаторству. Нет, скорее всего, автор просто немного скромничает, защищая свое произведение от нападок оппонентов. Он ведь наверняка знает, или по крайней мере, чувствует, на какое знаковое в современном мире место он замахнулся.
Потому что Задница – это самый благодарный и исчерпывающий (за счет своей неисчерпаемости) образ, знак, символ и герой нашего времени.
В народном представлении зад-ница – это антитеза лица и вообще головы, это также изнанка всего обычного, обыкновенного (выражение «через задницу» – синоним неординарного решения и вообще «творческого подхода»).
Это то место, которым притягиваются самые небезопасные, но захватывающие приключения, то есть – своего рода экзистенциальный магнит.
Это вроде как место беспросветной тьмы, но бывалые знают, что темнота там не абсолютна – если это задница белого человека. Разумеется, совсем темно, как известно, только в заднице у негра.
Это то место, через которое любая вещь выходит преображенной («как из задницы») и в тоже время заставляет задуматься о бренности, сиречь фекальности, всего материального.
Хотя по сравнению со лбом его называют мягким, но, как место искупления всех грехов, это – лобное место человеческого существа. По одному виду которого трудно сказать навскидку вход это или выход, а также определить пол – женский или мужеский.
Это еще и отличительный знак человека вышестоящего, ибо, когда некто поднимается всё выше и выше по строительной, пожарной, карьерной, социальной лестнице или лестнице власти, задница – это то, что лучше всего видно остающимся снизу. От него, от вышестоящего, в сущности, и остается для нас одна только она. А потому задница – это также и символ власти.
Но только символ современной власти. Царю, к примеру, никуда лезть не надо, потому что от самого своего рождения он спокойно сидит, повернувшись к народу лицом (отсюда стойкая ассоциация между царем и головой), а также языковое различие в определении главных атрибутов власти президентской и власти царской (президент уступает преемнику «президентское кресло» – как вместилище зада; но царь, несмотря на имеющийся трон, не царь без короны, венчающей голову).
Задница-всадница
по полям скачет,
по лесам рыщет.
Ищет головы невест,
ищет город Брест,
много чего ищет.
Задница-всадница —
задница-проказница!
Выйдут люди вО поле, скажут:
«Чего, задница-всадница, ищешь-рыщешь?
Или ты, как та модница,
греха срящешь?»
Скачет-скачет, молчит.
Топчет ли траву ту?
Топчет.
Сетьми ловили — не выловили.
Плетьми били — не вразумили.
Ходит задница-всадница
В кафтане по городу.
Кутит, смрадница.
Пропила бороду.
Лихие люди ловили в клеть ю,
Пели ю многолетью.
Всё ж ходит, острастку не вему, греху
невольница.
Горе тебе семо и овамо!
Как есть задница!
Бражницы сречь ей текут,
Задница тут как тут,
Сводница-греховодница.
Вся в ссадинах, срамница.
Это задница моя, задница-всадница,
БезОбразиям рассадница,
Всем пакостям начальница.
Вышел супротив ей Потап-поп
Дабы вывести ея в прихлоп.
Не нА сто лестовок сажать же в подпол
Со единой луковицей, да текли слезы
и пот бы?
Зачал отец Потап кропить ю святой водою.
Вот тут-то и пошло наокрест вою!
Палисадником скакала, дебелая,
В дыму чрезь изгородь махнула, горелая.
Стапоры не слыхано про задницу-всадницу,
Великую содомницу.
ДедЫ же говорят: (и)конокрадницу.
После знакомства с песней-зачином сразу же возникает ассоциация со старыми рассказами уже упоминаемого Ю. Мамлеева, где задница тоже весьма часто встречающийся персонаж. «Дама была как будто бы как дама: в синем стандартном пальто, в точеных сапожках. Однако ж вместо лица у нее была задница, впрочем уютно прикрытая женственным пуховым платочком. Две ягодицы чуть выдавались, как щечки. То, что соответствовало рту, носу, глазам и в некотором смысле душе, было скрыто в черном заднепроходном отверстии» («Петрова»). Это инфернальная дама, увидев которую большинство обывателей мгновенно умирает. Это персонаж «низин», которые кажутся страшными тогда, когда год еще не пришел к повороту. Когда мы спускаемся всё ниже и ниже мы всё больше привыкаем к ним. И задницы у Мамлеева пока еще не возникают на улицах так отдельно и откровенно, как у О. Фомина. Чаще всего они проявляются так, например: «Часам к одиннадцати ночи, когда баня совсем опустела, к ней подошли три весело хихикающих в такт своим задницам существа». («В Бане»)
Или так, невинным сравнением: «Глядя в тупые, какие-то антизагадочные глаза Нюры, в ее толстое, напоминающее мертвенно-холеный зад лицо …» Или же признаки ягодиц просто вспухают то тут, то там: «Но главное – ей стало обидно; это была мутная, неопределенная обида, как обида человека, у которого предположим, на левой половине лба вдруг появилась ягодица». («Отношения между полами» Ю. Мамлеев).
В одном рассказе происходит уже сознательное (сознательное для героя) замещение человека задницей (как у Гоголя – носом): «Вася постоял, постоял, посмотрел в окно и вдруг уцепился взглядом за одну девку. Сердце у него ёкнуло, и в мозгу стало оживленней. У девки – ее звали Таня – был очень странный, висевший, как две разбухшие кормящие груди, зад. А глаза лучистые-лучистые и очень нежные. Чувствовалось, что ей самой очень нравится ее зад….
Васю очень смущали глаза Тани: они излучали идеальность. От этого у него падала потенция. «Ты, Вася, брось ей в глаза смотреть, подбодрил он себя. – Ты ей в задницу смотри».
Он опустил глаза и так говорил, глядя в ее задницу. За это время Вася совсем растек и ощутил в груди, у сердца, частичку ее ягодиц. Ему стало так хорошо, что чуть не закружилась голова. Теперь он мог спокойно смотреть на Танино лицо. Лучистость уже не мешала, и он просто ощущал это лицо как продолжение зада». («Свидание»). Страшно!
А у Фомина по городу бегает и скачет самая настоящая, живая, целая, крупная задница.
Если по жанру это произведение – психодейство, то, скорее всего нам не придется увидеть в нем какие-либо прямые логические выводы. Нам, скорее всего, будет передан некий дух, некая тайна. Одна из песен, к примеру:
В САДУ СТРАХОВ
— Тут задницу поймали, барин!
— Исправно.
— Разведывала, нехристь.
— Пытайте.
— Божится, что по-русски толку неймет.
— Научим.
Петруша, клещи.
Голубчик, разожги огонь!
Говорила ли ты, что я-де плюю на всех?
Говорила ли ты, что где смех, там и грех?
Говорила ли ты, что ёлки в бору растут?
Говорила ли ты, что куры яйца несут?
Говорила ли ты?
— Отпирается!
— Пытайте.
Говори, знаешь ли ты истинный свет?
Говори, может быть, тебя вовсе нет?
Говори, знаешь ли ты, что такое ты?
Говори, знаешь ли ты?
— Отпирается!
— Пытайте.
Говори на животном, на родном языке.
Говори, как проехать в небеса по реке?
Говори, что зажато у меня в кулаке?
Говори, кто взыскует на облаке?
—Восплакала
—Охлыньте!
– представляет собой нечто очень похожее на своеобразное воспроизведение архаичного «обряда выспрашивания», который применялся в древности (а некоторыми знающими бабушками применяется и сейчас) для пополнения знаний о мироустройстве, о сущности вещей. Этот обряд заключался в том, что несмышленое еще, едва-едва начавшее произносить первые слова дитя, специальным образом расспрашивали, «пытали», задавая наводящие вопросы, и ребенок рассказывал удивительные вещи о жизни до рождения (а стало быть, и после смерти), о Боге, о назначении человека, о смысле некоторых природных или исторических явлений. Наши предки были далеки от того, чтобы считать ребенка только недоделанным взрослым, а потому и старались не пропустить тот момент, пока он еще «не забыл» истинные знания, тщательно собрать их и правильно расшифровать. Способность толковать произнесенные дитятей звуки – это как раз и есть владение «фонетической кабалой».
Интересно и то, что приблизительно до трех лет, то есть как раз до того момента как устанавливалась фразовая логическая речь и пропадал младенческий, ангельский лепет, ребенок ходил голопопым и не имел половых различий ни в одежде, ни в прическе, то есть был, по сути дела, андрогином. В три года мальчика стригли и надевали портки, а девочке заплетали косу и рядили в сарафан. А задница, как мы уже выяснили выше, в противовес голове – рациональному мышлению, является абсолютным вместилищем иррациональности. Отсюда и выражение «силен задним умом». Потому «ведун» Баташов и приказывает пытаемой заднице, чтоб та говорила, подобно ребенку, «на животном, на родном языке».
А потому песни «СИРСКИ ПИСМЕНЫ, Скрижал перва» и «СИРСКИ ПИСМЕНЫ, Скрижал втора» представляются нам теми самыми тайнами, что поведала задница-всадница Баташову:
СИРСКИ ПИСМЕНЫ
Скрижал перва, Скрижал втора
БРЕШ СТРОШ КА НЕМ НО БЫ СТО РОЙ МИ ПЕЦ ДИ ЕМ
ПЫЦ ТОЙ УР ВА ТИ ХО ГРУ ХАЙ СТЯ БЫ КОР СЫ
ОБ ТРЫ ЦОЙ ПА ТУК ХВЯ ГРОХ БА ЧУЙ ВЕНЬ ТРА КУЙ
КРА ЦА СТУ ТРЕ МЕ СТРЫ ПОД СТРА МАЙ СВИ ПОЙ КАЛ
ТРО ПЕ НУ МОЙ ВЕС ПИ ТОЙ РУК ЗА СЕМ РЕД ПРЫ
ЦВЕ ОЗД РЫЙ МИ НО СТЕ РУД КРЫ ОТ НАМ ОЙ СТЕНЬ
СЛА ША РУЙ ГРА КО ТЫ ГРАЙ ШУК КУР МЫЙ ВРЕ СТЯ
СЫЙ ПРЕ СТРУ ЗОН СТВО ПРА ПРОТ СЛА КИЛ ДНО КУР СТИМ
МУ ГЛЫ СОТ ОЙ ПУ ЩМИ УЙ ТРЕ БЕЗ ВЫЙ ДРЯ ПУЙ
КРО ЗДЕ ВО ЯР ТА ЧИР СУ БАР НО РОЙ СЛЯ ВИД
КУ СТРУЙ ВЕЛЬ АЖ РАС ПРЫ СТРЕ ДИТ ЦВОЙ БРЯ МЯ НА
БО СУ ТЯ КРОЙ ДЕ СЫ ЖНА ДА ПРЕ ВТО НЕЦ РА
Мы также можем заметить, что слово «за…ца» содержит в себе анаграмму «за ад ниц», смысл этой анаграммы и воспроизводят песни:
АРИОЗО БАТАШОВА
Я ведь не изверг, не ретроград.
Для безбожных рай, для фарисеев — ад.
Грешница безбожная, ступай, где вертоград.
Я исходу таковому сам немного рад.
Вечность, ты открытая исходу всех людей,
Меня в моем исходе хоть немного пожалей!
Немало душ погублено и сколько невзначай.
Неужто их молитвами не попаду я в рай?
МОЛИТВОСЛОВИЕ
Вечность святая, незапятнанный конец,
Десное усечение — божественный Отец!
Святое вспоможение — божественная Мать,
Возьми мои утробы премудро умирать!
Слава нескверна в небесах и на земли,
Слава велелепна не топит корабли,
Слава нетленна — не страшно умирать,
Слава невозбранна — божественный тать.
Молимся о святом небесном палаче,
Молимся о вызволяющем мече,
Молимся о встрече и небесном враче,
Молимся о нержавеющем ключе,
Молимся о сгинувших клетей и темниц,
Молимся за тех, кто не смежает ресниц,
Молимся за толпы опочивших лиц,
Молимся о страждущих и падающих ниц.
Эти строки создают аллюзию на стихотворение Н. Клюева:
…Избежав могильной клети,
Сопричастники живым,
Мы убийц своих приветим
Целованием святым…
Эти молитвословия за тех, кто за свой Ад низвергается Ниц. А это уже, в свою очередь, круговой порукой возвращает нас к Пимену Карпову и его Феофану:
«А за открытой настежь дверью Феофан, крепкий как кремень, преклонив перед низким дубовым престолом колено, читал глухим, замогильным голосом акафисты праведникам, переступившим через кровь» (П. Карпов «Пламень»).
Достоевский своим «Преступлением и наказанием» решал еще и вопрос о том, как поведет себя человек, считающий себя избранным, в «точке принятия решений», в момент, когда экзистенциальный выбор одного никому не известного нищего студента определит облик всего человечества. Достоевский предчувствовал то время, когда выбор должен был быть сделан однозначно – потерять душу свою, совершить преступление. То время, когда интеллегентный, но честный Маяковский, во весь голос говорит: «Я люблю смотреть, как умирают дети», — потому что зло и кровь стали оправданы, он чует это своим поэтическим нутром. Но мы, даже спустя век, ощущаем, что строчка эта дается ему так, как Раскольникову убийство старушки-процентщицы.
Случайно ли то, что сейчас нам показывают новую дословную экранизацию «Преступления и наказания», как бы глумясь и утверждая, что мы опять не сможем отбросить свои интеллигенсткие предрассудки, чтобы решиться преступить черту.
Отвечая кому-то на форуме, Олег Фомин говорит: «Интеллигент – это всегда гнида, трус и предатель, разрушитель Отечества. Это такие "климы самгины". Боюсь, что вы не очень отличаете интеллигентов от работников умственной деятельности. Если вы можете подойти к подонку и, не говоря ни слова, ударить его в челюсть – вы не интеллигент. И слава Богу. Как правило, интеллигентщина вдобавок ко всему еще обременена перверсиями ("подпольный нищенский разврат" – как ее определил Микушевич) и неоспиритуализмом. Всё это я стараюсь из себя изжить. Для этого делаю ПОСТУПКИ. Даже если они мне очень неприятны».
И потому в «чинопоследование» оперы также включена и самая главная песня, можно, наверное, сказать, гимн «Злыдоты» – «Баташов и Злыдота». Это, собственно говоря, просто положенная на музыку легенда, составляющая существенный смысловой пласт в книге «Священная Артания» – легенда о заводчике Андрее Родионовиче Баташове, основателе города Гусь-Железный.
По преданию, это был русский Жиль де Ре или Маркиз де Сад, искушенный в тайных науках, содержащий при себе полуразбойничье войско карательного назначения. Эта баташовская злыдота, отождествляется и с описанной Пименом Карповым злыдотой, и с современной загадочной организацией «Суд Леса», о которой рассказывается в «Очерках по сакральному краеведению» (глава из «Священной Артании»). Что особенно интересно: «С приходом Сталина Суд Леса самораспустился. Однако вовсе не из-за гонений. Наоборот, Сталин виделся как новый, тотальный Баташов. И злыдота радостно ввалилась в его рать. Многие из них стали мещерско-владимирскими лесниками…». Сейчас же, ввиду последних времен, злыдота, как рассказывают, вновь поднялась. «Чего хочет злыдота? Злыдотник по-русски ответит: «Правды».
Актуальнейший же для сегодняшнего момента смысл заключается в последних двух строчках оперы:
Кто ж таперя новый барин?
Все тому, кто одолеет…













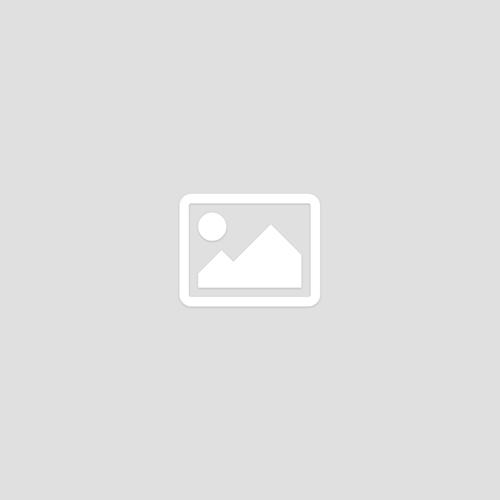





Комментарии (0)