Будетлянство Олега Фомина-Шахова
"Выбор Олега – шаг от современности, через голову (через труп) модерна в сторону русского Архэ, – был волевым и сознательным жестом, по большому счету не предопределенным его семейной или личной историей. Приведу фразу из последнего, посмертно опубликованного газетой «Завтра» интервью: «Я открыл и обрел свою духовную Родину, ставшую для меня образом мира – imago mundi – и картой мира – mapa mundi». Олег свидетельствует об осознанном, индивидуально-волевом, в хорошем смысле слова модернистском действии – не столько против современного мира, сколько прочь от него. Вопрос – куда? Рискну предположить, что наиболее подходящим словом было бы «будетлянство». «Будетляне» – неологизм на палео-основе (по тому же лекалу, что и «древляне», «поляне», «славяне»), изобретенный в начале XX века Виктором-Велимиром Хлебниковым, совпадает по настрою с тем, над чем в начале XXI века работал Олег Фомин-Шахов."
Когда я готовил доклад к Первым Фоминским чтениям, то первым же – и главным – вопросом, без решения которого выходило «претыкание», стал вопрос об имени. Точнее – вопрос о назывании и определении того образа мысли, речи и действия, который сформулировал, сформировал и в котором работал Олег Фомин-Шахов, краевед, музыкант, философ, поэт, мечтатель о все еще не наступившем русском будущем и борец за сбережение исчезающего русского семейного уклада.
Хотел написать – «это был вопрос о дискурсе», если бы само слово «дискурс» было подходящим, но оно в корне своём неточно (discursus означает «беготню, суету, манёвр»). Ведь Олег менее всего был склонен к суете, и – зачастую к ущербу для себя – не склонен к маневрам. Итак – вопрос об имени, которым можно было бы назвать то сочетание, к которому тянулся Олег. Это сочетание изначального, праславянского, «бореального», забытого, подлежащего выявлению и реконструкции (и вечно, имманентно присущего нам) – сочетание с предельно авангардным, принадлежащим только угадываемому и еще не рожденному будущему.
«Археофутуризм» при кажущейся адекватности обоих составляющих (ἀρχαῖος и futurum) иррелевантен, так как тащит за собой целый ворох ненужных коннотаций. Гийом Фай, который придумал этот термин, отнес его к сфере политического. Запрос в поисковике сразу выдает ссылки на рассуждения о «засилье мигрантов и европейской культуре», европейской реконкисте и т.д. и т.п., автоматически отправляющие в маргинальный сектор западноевропейской правой. Не то.
Еще менее подходит «археомодерн», термин, введенный Александром Дугиным. В статье, посвященной этому явлению, философ убийственно точно определяет археомодерн как сугубо механическое, неосмысленное пребывание осколков премодерна и модерна в нездоровом социальном сознании, болтовня и бормотание современного русского das Man при отсутствии субъекта, который порождал бы мысль, речь и действие. Опять не то.
Дугин в своем эссе упоминает «археоавангард», придуманный Федором Гиренком – термин, на мой скромный взгляд, расплывчатый («Момент, когда прошлое, продавливая настоящее, оказывается в будущем, я называю археоавангардом»). Хотя, надо заметить, в этой статье 2002 года Гиренок, вслед многим – от экзистенциалистов до традиционалистов, да и тому же Дугину – подводит итог «человеческой реальности»: «Порядок современности образован так называемой антропологической катастрофой. Исчезновением человека». Важно, верно (равно как верны и рассуждения о прирожденной неискренности современного искусства) – но вновь не то.
Выбор Олега – шаг от современности, через голову (через труп) модерна в сторону русского Архэ, – был волевым и сознательным жестом, по большому счету не предопределенным его семейной или личной историей. Приведу фразу из последнего, посмертно опубликованного газетой «Завтра» интервью: «Я открыл и обрел свою духовную Родину, ставшую для меня образом мира – imago mundi – и картой мира – mapa mundi».
Таким образом, Олег свидетельствует об осознанном, индивидуально-волевом, в хорошем смысле слова модернистском действии – не столько против современного мира, сколько прочь от него. Вопрос – куда?
Имя найдено?
Рискну предположить, что наиболее подходящим словом было бы «будетлянство». «Будетляне» – неологизм на палео-основе (по тому же лекалу, что и «древляне», «поляне», «славяне»), изобретенный в начале XX века Виктором-ВелимиромХлебниковым, совпадает по настрою с тем, над чем в начале XXI века работал Олег Фомин-Шахов.
«Славянский корень русского самоназвания указывает на доцивилизационные, доисторические основания русского футуризма», – пишет искусствовед Илья Доронченков, и с ним сложно не согласиться.
Самое прогрессивное направление той эпохи – провозгласившее «самовитое слово» и заумь в поэзии, беспредметность в живописи, и обрушение хорошо темперированного клавира в музыке – предсказуемо отпугивало обывателей. Что впрочем, тоже уже обросло полувековой традицией – Épaterlabourgeoisie начали ещё декаденты. Но будетлянство, пожалуй, пугало и удивляло не как уэллсовский марсианин, свалившийся непонятно откуда на чадящий заводскими трубами мегаполис – а как внезапно заговоривший «злакогривый истукан» из стихотворения Давида Бурлюка.
О том, что в русском футуризме было куда больше «злыдоты», чем дизельпанка, подробнее – несколько ниже. А пока (чтобы далеко не уйти от заявленной темы) – о параллелях между тогдашними и нынешними будетлянами в волевом и осознанном переоткрытии нашей общей духовной Родины.
Наш футуризм создавался людьми, воспитанными в классической западноевропейской эпистеме. Он основывался на – и отталкивался от – авангардного искусства Запада.
Олег Фомин получил классическое советское, читай европейски-модерновое образование, получил классический музыкальный и филологический базис.
Достаточно сказать, что в Университете Натальи Нестеровой, где учился Олег, преподавал поэт Константин Кедров – один из ведущих представителей позднего советского авангардизма, практик «метаметафоры», наряду с Алексеем Парщиковым и Александром Ерёменко. К слову, и в случае с Кедровым мы не имеем дело с чистым «прогрессивным искусством» – учитывая преклонение «метаметафориста» перед имяславцем Алексеем Лосевым и его идеями, выросшими из русской религиозной философии Серебряного века.
Но всё же продолжим – о модерне. Интересен исходный музыкальный интерес Олега Фомина, и попытки его осмысления и адаптации в раннем, сольном творчестве. Это, о чём он говорил неоднократно – европейский арт-рок, то есть сочетание прогрессив-рока с обращением к классической, и во многом – к русской академической традиции (а значит – и к русскому мелосу).
Это собственно русская академическая школа, западный минимализм Терри Райли и Ла Монте Янга (которые прямо наследуют довоенным футуристическим экспериментам), и это краут-рок как сочетание того же академического минималистского авангарда и электронной музыки.
В этом смысле показательна параллель с интересами Владимира Игоревича Карпца, не столько учителя (учитель Олега в литературе – Владимир Микушевич, глубинный русский мыслитель и одновременно знаток высот классической европейской философии и литературы) – сколько старшего товарища, едино- и сходно-мышленника.
Карпец, по своему генезису, контексту, по литературным и личным связям – казалось бы, почвенник, представитель «старой правой» и т.д. Но, по свидетельству знавших его людей – глубоко разбирался в музыке Новой венской школы, авангарде второй половины XX века, в артхаусном кинематографе (с учетом чего, по-моему, надо воспринимать его собственные опыты в кино), в постмодернистской литературе – и сам переводил антироманы Жана Парвулеско.
И, Фомин и Карпец (см. его позднее стиховое творчество) сделали одинаковый выбор в пользу сочетания авангарда и архаики. Ярким – точнее, звучащим – подтверждением чего стала «гетическая» группа «Злыдота», которая определяла свою музыку как «сплав плясовых скоморошин, гуслярских попевок, античных мелосов, средневековой православной церковной музыки и хлыстовско-скопческих «розпевцев». В случае обоих поэтов путь шёл примерно одинаково от «хорошей, но обычной» позднесоветской поэзии в случае раннего Карпца и чего-то вроде постсимволизма у Фомина – к «рыщущим рыщурам».
От арт-рока – к «волк-опере», к добаховским гармониям и «праиндоевропейским текстам», к музыке, под которую можно вершить суд скифского Леса.
«Если пока еще и в наших строках остались грязные клейма ваших «здравого смысла» и «хорошего вкуса», то все же на них уже трепещут впервые Зарницы Новой Грядущей Красоты Самоценного (самовитого) Слова», – говорится в составленном Хлебниковым первом манифесте будетлян.
Слово в стихах Фомина и Карпца – и в песнях на поэтически «реконструированном артанском языке», зачастую приближались к этой «самовитости». Например, в работе «Арта Кристосо», можно, имея некоторый объем исторических знаний, можно примерно «догадаться, о чем идет речь», но рискнем предположить, что все же автор в первую очередь стремился к самоценному словотворчеству.
«ГЛАЗ ПЕРВЫЙ, правый, в Китай-бор-от вперяется —
В Кси-лучах Кюри князь Кир-Юр не теряется,
Синий же Ус да от брады соблюдет себя
Да не Труп Вора в ладье причалит, гребя...
Илия-солея волот Муромский – иль я
Что-то здесь ищу, только Гусь-река гуслея»
(«Четвероглазник», музыка Фомина, слова Карпца).
Слово не столько как лексема и единица информации, сколько как элемент песни, наговора, заговора. Около зауми.
Чу! Слышишь речь птицерыбкукуевых,
Сирию сирен, Сорию-Нил-реку?
Плывет ку-ку из Киева-Куева,
Услышишь его, только коль сам
ку-ку
(«Летучее серебро», одна из главных песен группы «Злыдота». Музыка Фомина, слова Карпца).
«О нахождении кукушки, близкой к Cuculus Intermedius Vahl., в Казанском уезде Казанской губернии», – так была озаглавлена первая работа естествоиспытателя Виктора Хлебникова. «Кукушка азбуки, в хвое имен закрыта, она печально куковала», – написал через несколько лет поэт Велимир.
«Вырезав дудочку, называл ее мирель…»
В декабре 1914-го Владимир Маяковский, в духе будущих окон РОСТА вывернул определение будетлянства в политическую сторону: «Будетляне — это люди, которые будут. Мы накануне. Еще месяц, год, два ли, но верю: немцы будут растерянно глядеть, как русские флаги полощутся на небе в Берлине, а турецкий султан дождется дня»… и т.д. – и тотально ошибся.
Если отвлечься от публицистических трактовок, поверхностных как всякие публицистические трактовки, то и в сути русского футуризма таится противоречие. С одной стороны – «люди, которые будут», и которые появились после явления итальянских коллег, должны следовать (и как будто следовали) Il Manifesto del Futurismo – «Манифесту футуризма», в 1909 году напечатанному миланцем Филиппо Томмазо Маринетти в парижской Le Figaro.
«Гоночная машина, капот которой, как огнедышащие змеи, украшают большие трубы; ревущий автомобиль, словно изрыгающий картечь, — прекраснее статуи Ники Самофракийской», – и тому подобное.
Европейский авангард эпохи Великой войны и восстания масс, итальянский футуризм, швейцарско-германский дадаизм и т.п. – явление не просто зрелого, а перезревшего модерна, прошедшее свою точку акме. Усталость и пресыщенность от культуры, доставшейся от предыдущих веков, от Гомера до Гюстава Флобера, отрицание «святых камней», и желание действительно сбросить их с «Титаника» современности. Воспевание альтернативы ветхому прошлому – линейной увлеченности к горизонтам прогресса, было созвучно эпохе машинного производства и индустриальной войны. Другое дело что с нашей точки зрения, это уже Plusquamperfect, «давно прошедшее время». Футуризм устарел.
«Время и Пространство умерли вчера. Мы уже живём в абсолюте», – писал Маринетти в Manifesto del Futurismo 1909 года, и с итальянской непосредственностью сам же себе противоречил: «Мы утверждаем, что великолепие мира обогатилось новой красотой – красотой скорости». Преклонение перед техникой, именно в том ее изводе, о котором приблизительно тогда же говорил Мартин Хайдеггер – техника как забвение бытия и его открытости.
Но есть и другая сторона.
Те, кто породили слово «будетлянство» вместо итальянского futurismo – также отрицая предыдущую эпоху, XIX век – относились иначе и к передовым европейским течениям, и к самой Европе, и к новому времени вообще. Хлебников и Бенедикт Лившиц, встретили инспекторский приезд Маринетти в Петербург в 1914 году листовкой – в ней обличались те, кто предает первые шаг «русского искусства по пути свободы и чести, и склоняют благородную выю Азии под ярмо Европы».
Маяковский, в своей автобиографии декларировавший ненависть ко всему «древнему, церковному и славянскому», пожалуй, был искреннем прогрессистом, присягнувшим самому авангардному течению, а затем и самому передовому учению. То же и куртуазный гений Игорь Северянин, наивно-экстатически фасцинированный аэропланами, автомобилями и шикарным ликёром крем-де-виолетт.
С другими будетлянами и творянами (еще одно новое слово Хлебникова с древним корнем) всё сложнее.
Велимир начал с «Песни мирязя» – 1907, за два года до манифеста Маринетти. Русский футуризм начался не с «шоффэра» или авиатора, а с «мирязя» – витязя мира:
«И был юноша с голубой мглой во взорах, в белой одежке, с первоодеванными лапотками, и, подслушав миристель, срезал грустняк и, вырезав дудочку, называл ее мирель, себя же — первомирельщиком…
Гласючими молотами били слово вдали словельщики-товарищи. Иногда на белый камень у лодочной пристани приходила дочь леса и, положив белый лик на колени, бросала на темные воды миратый взор».
Что-то равно очень далёкое, и от мороженого из сирени, и от ста томов партийных книжек, не так ли?
Русские будетляне намеревались работать «влагая древний смысл в правду», как сказано в хлебниковском «Зверинце» (1909) из первого «Садка судей». Для культурного общества поздней петербургской империи, «где наряды людей баскущие, где люди ходят насупившись и сумные» (как сказано в том же «Зверинце») это было вызовом сильнее «Черного квадрата».
К слову, кто как не супрематист Казимир Малевич дал странный для авангардиста совет обэриутам, последним авангардистам первой половины XX века:
«Идите, и останавливайте прогресс!».
Да Академия и Пушкин – непонятнее гиероглифов (коллективная «Пощечина общественному вкусу»), но именно в «гиероглифах» цвет «был так же насущен, как и графическая сторона, т. е. знак был цветное пятно», в то время как в современности «при переходе от вещевого (письма) через символическое к звуковому письму мы утеряли скелет языка и пришли к словесному рахитизму». И оттуда же – «слово связано с жизнью мифа и только миф создатель живого слова».
Миф – а не науку и искусство позитивистской эпохи подняло на щит самое, вроде бы, прогрессивное направление той эпохи, провозгласившее заумь в поэзии, беспредметность в живописи, и обрушение хорошо темперированного клавира в музыке.
Но похоже, что строительство искусства будущего подразумевало обращение к эпохе не только до рождения Филиппо Маринетти, но и до рождения Данте Алигьери. Прекраснее Ники Самофракийской, похоже, оказывается что-то вроде скифской бабы.
Шамана встреча и Венеры
Была так кратка и ясна:
Она вошла во вход пещеры,
Порывам радости весна.
Особенно ярко этот подкоп и подрыв под культуру нового времени, одновременное обращение к будущему и прадревнему проявился у самого Велимира – например, в «Ладомире»…
(Заметка на полях – поисковые системы по запросу «Ладомир» выдают ссылки на магазин по продаже стиральных машин. Ирония постмодерна)
…или в работах художников круга Ларионовой и Гончарова, и в тех манифестах, которые за них тогда писал Илья Зданевич. «Мною пройдено все, что мог дать Запад до настоящего времени, а также все, что, идя от Запада, создала моя родина… Мой путь — к первоисточнику всех искусств: к Востоку» (Гончарова, 1913). Авангард был всегда. Истоки кубизма – в искусстве Египта, Месопотамии, Руси (Александр Шевченко, художник ларионовского круга).
Те же, странные для крайних модернистов черты, отличали и прямых наследников футуристов – группу ОБЭРИУ. И показателен общий интерес Фомина и Карпца к обэриутам, в первую и главную очередь – к Александру Введенскому, с его тягой к архаичному, вне- и надвременному. «Еще в начале 20-х годов сам Введенский говорил: «Меня интересуют три темы: время, смерть и Бог»… На самом деле Введенский – никакой не «левый». Напротив, он принадлежит полностью коринской «Руси уходящей», – отмечал Карпец в развернутом эссе о Введенском.
Не опережая время, а поперёк и против времени шли «не для денег родившиеся» творяне. Что в начале прошлого века, что в первой его четверти, что сто лет спустя. Возможно, в этом есть закономерность – надо бы свериться по «Доскам судьбы».
Гилея и Артания. Географический анабасис
Замета на полях, которая уведет нас довольно далеко – первое объединение будетлян, появившееся в 1908 году, называлось «Гилея».
Важное эллинское слово. Ὑλαία – дословно, «лесная земля», священный скифский лес (очень значимое сочетание) у Геродота, в низовьях великих рек, от Борисфена-Днепра до Танаиса-Дона.
Главные будетляне были южнорусского происхождения: астраханский степняк Хлебников, сын закавказского лесничего Маяковский, одессит Бенедикт Лившиц – который будто бы случайно вспомнил эту геродотовуГилею, харьковчане Бурлюки (из ряда как будто выбивается Василий Каменский – который родом с русского северо-востока, точнее с парохода, шедшего из Перми в Сарапул).
Этот ряд вполне можно продолжить ростовчанином – из Ростова-на-Дону – Олегом Фоминым, которого всю жизнь тянуло в направлении Ростова Великого, к северо-востоку.
В личном мифе Фомина-Шахова важное место занимала Артания – загадочный и плавающий-блуждающий топос, и при этом одна из трёх основ Руси. У арабских авторов VIII-XII веков, от Абу-Зайда аль-Балхи до аль-Истахри упорно назывались три центра, из которых родилось государство русов. С первыми двумя всё понятно: Куйаба – Киев, ас-Славийя – Словенск, он же Великий Новгород. Третий – Арсания или Артания (ارثانية), с которой всё непонятно.
«Над разрешением загадки локализации последней ученые умы бьются уже более двух столетий. Предлагались локализации от о. Рюген до Тамани и от Карпат до Перми, что заставило Грекова в свое время написать: «Может быть, эту загадку вообще не придется разрешить никогда»
(Олег Фомин, введение к книге «Священная Артания»).
При этом перед нами загадка, которая создаёт вокруг себя целое семантическое поле, границы которого очертил Владимир Борисович Микушевич в предисловии к той же книге: от латинского ars – искусство (и ArsMagna – великое деланье, искусство алхимии), до иранского «Арта» и индийского «Артха», строй, миропорядок, Правда.
И добавим, где-то здесь же бродит лесной хозяин – медведь (Ursus arctos на научной латыни, arša в реконструкциях скифского языка), «дедушка-медведушка», столь важный в личном мифе Микушевича и самого Фомина.
Географически же топосАртании – как уже говорилось – блуждает от карпатских до эрзянских и пермских лесов. Но основных привязки две. Первая – северо-восточная, которой, собственно, придерживался и Олег: Артания – «речной остров», в междуречье Оки и Волги, в треугольнике между нынешними городами Гусь-Железный – Гусь-Хрустальный – Плёс. Земли Ростово-Суздальской Руси.
«Гусей» Олег сопоставлял с санскритским словом haṃsa (дословно – гусь, или в другой трактовке лебедь), обозначающим в ведической традиции сущность, способную извлекать добро из зла – и одновременно, общность людей, существовавшую в золотой век, до разделения на варны. Гусь, отметим, также алхимический символ Albedo, работы в белом.
Хамса Кристосо
Арса, Артасо.
Лю-ли, лю-ли! Ой, Мурма Кристосо!..
Урсу соло Азован Артасо.
Агатирс на Гусь везе колесо.
Соло-соло, колесо-колесо.
Бар-бархан у кола стиАртасо.
Мепобаче жив Хамса Кристосо!
(Олег Фомин. Уже упомянутое выше заумное произведение «Арта-Кристосо» из репертуара группы «Злыдота»).
Рискну предположить, что Азов («Азован») здесь упоминается неспроста. Вторая географическая привязка Артании – которой придерживались Дмитрий Иловайский и Густав Эверс, это Приазовье и Причерноморье. «Черноморская Русь» по Эверсу – то есть морское прибрежье примерно от Борисфена-Днепра через Дон-Танаис до Гермонассы-Таматархи-Тьмутаракани и Тамани-Фанагории.
Фанагорийский стяг —
Опричь ветрил — бутыль.
С каждого дому — щляг,
Червь — золотой мотыль…
Имаши Красный Дар,
Арсы творят в Краснодаре
Тмутораканский шар
На блюде, в честном самоваре.
(Олег Фомин. «Красный дар», песня из репертуара группы «Злыдота».
И там же: «От урса, от тундр, от гагар…». Вновь мы видим сочетание русского морского и степного юга и русского северо-востока с Ursus’ами, тундрами и гагарами).
Ср. у Хлебникова:
В этот день голубых медведей,
Пробежавших по тихим ресницам,
Я провижу за синей водой
В чаше глаз приказанье проснуться.
На серебряной ложке протянутых глаз
Мне протянуто море и на нем буревестник;
И к шумящему морю, вижу, птичая Русь
Меж ресниц пролетит неизвестных.
Но моряной любес опрокинут
Чей-то парус в воде кругло-синей…
Географическая сердцевина южной, черноморской Артании – Ростов-на-Дону, и здесь же когда-то была геродотова Гилея.
На змее-поезде вдоль реки-времени. Петушки – Вековка
В процитированной выше заумной песне «Арта-Кристосо» упоминается некий Агатирс. Агатирсы – упоминавшийся Геродотом, Плинием и Аммианом Марцеллином народ, который (по Аммиану) жил как раз на восточных берегах Меотиды – Азовского моря, как раз в районе того же Ростова. Прародитель их, Агатирс или Агафирс – брат Скифа, сын Геракла и змееногой богини, автохтонной покровительницы Гилеи.
Змеи, к слову, постоянно присутствуют в личном мифе старшего друга Олега Фомина, Владимира Карпца – а через него и в творчестве Олега.
Молчи, жена, еще не птица,
Но огнем меч горит в деснице
У Вратаря затверста Рта,
И подобает мгле молчати,
Пока сама не съест печати
Змея прославленная та.
Вспоминаются строки Алексея Крученых, напоминающие то ли врачебный трактат, то ли заговор:
мозг змеи целебен…
кость мамонта под бурой мочалью
если не исцелит
и приложились мы к кости ладонь к кости и око стенели
У Фомина в «Священной Артании», и у Карпца в его свидетельствах, змеи правят – «играют свадьбы» в самом средоточии Артании, во вневременной Вековке, куда можно добраться только на странном поезде, «чап-чапе» – добром близнеце ерофеевской пьяной электрички (направление, заметим, то же самое – на Восток, но Вековка дальше Петушков).
У Хлебникова сам поезд превращается в змея:
Я мнил, что человечество – верховье, мы ж мчимся к устью,
И он крылом змеиным напрягал,
Блестя зубов ужасной костью.
Едущему вглубь континента «чап-чапу» явно не по дороге с «пароходом современности» – да и тот пароход уже давно очевидно покоится на дне океана.
«Благое место». Будетлянский праксис
Консервативный авангард предлагает радикальный (от латинского radix – корень) выбор в пользу движения от «устья» к истокам народного мировосприятия, к «верховьям человечества». И познав (точнее – вспомнив истоки), минуя все позднейшие культурно-цивилизационные напластования модерна, предлагается образ лучшего русского будущего, ближайшего и дальнего.
Расхождение между Россией и бывшим «цивилизованным миром», которое лишь подтвердили и зафиксировали последние исторические события, свидетельствует о том, что единого будущего, «без Россий и Латвий, единым человечьим общежитьем» – не будет.
Даже если забыть о всём, происходящем здесь и теперь (а забыть это невозможно), то и раньше было очевидно – жить в том Futurum'е, который предлагает евро-американская цивилизация, для русского человека противоестественно и неприемлемо. Значит, нужно жить своим умом, и «стоя на глыбе слова «мы», начинать строительство будущего.
Странный человек Хлебников, похоже, умел довольно точно прогнозировать, «куда что пойдёт» – например, напророчил интернет: «Научная новость, землетрясение, пожар, крушение в течение суток будут напечатаны на книгах Радио. Из уст железной трубы громко несутся новости дня, дела власти, вести о погоде, вести из бурной жизни столиц… Гордые небоскребы, тонущие в облаках, игра в шахматы двух людей, находящихся на противоположных точках земного шара, оживленная беседа человека в Америке с человеком в Европе. Радио разослало по своим приборам цветные тени, чтобы сделать всю страну и каждую деревню причастницей выставки художественных холстов далекой столицы».
Стала ли «каждая деревня» (а мы подразумеваем в первую очередь русскую деревню) счастливее от того, что иногда она подключена к «глобальному радио» с соцсетями и телеграм-каналами – отдельный вопрос. Как замечал ещё любимец советских интеллигентов Илья Ильф, «в фантастических романах главное это было радио. При нём ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет».
И век назад было очевидно, что господство жильцов «гордых небоскрёбов» над остальным земным шаром, мягко говоря, не всегда идёт на пользу – вспомним о формуле «приобретатели против изобретателей».
Сейчас, когда во многом приходится изобретать себя заново, нам в подмогу – мысли мечтателей прошлого века (здесь, я, конечно, говорю, не только о художниках, но и о неортодоксальных экономистах – о том же Александре Чаянове, которого так ценил Олег Фомин), и утопии новейшего времени. К каковым можно отнести и Олегов «Русский уклад в XXI веке». И называя этот проект утопией, я отнюдь не умаляю его достоинств.
Есть версия, что «утопия» в дословном переводе с греческого это не «несуществующее место», а «благое место» (от εὖ – благо и τόπος – место). То есть тот идеальный или эйдетический образ – в данном случае, образ будущей Руси, к которому надо подтягивать «реальность, данную нам в ощущениях».
Как замечал Илья Доронченков, русские будетляне разделяли неогегельянское представление о том, что искусство не просто отражает национальную ментальность – оно способно формировать ментальность народа или класса. «Национальное возрождение начинается с краеведения и освоения древних ремесел, преданий, песен», – говорил Олег Фомин-Шахов в своём последнем интервью.
В этом смысле совершенно оправданно проделанное Максимом Медоваровым сравнение творчества Фомина с работами такого неортодоксального художника зрелого европейского модерна как Уильям Моррис – чьи интересы простирались от поэзии и возрождения ткацких промыслов до политических практик. Религия, Традиция и этика первичнее технологии, но это не отменяет саму технологию – вполне по-моррисовски.
К звёздам
И здесь как раз уместно указать на ту грань личности нашего друга, о которой как-то всегда забывалось, когда речь заходила о Фомине – гусляре-скоморохе, философе-традиционалисте, краеведе и исследователе фольклора, или православном публицисте и деятеле русского «пролайфа».
Я говорю о постоянном, с детских лет сохранившийся интерес Фомина к технике, в смысле хайдеггеровскоготехнэ, «про-из-ведения», «раскрытия потаенности». Его интерес к космосу и астрономии, о котором он писал в автобиографической повести «Там за Северным, на Звезде» – и который отразился в его раннем музыкальном творчестве («Фуга звезд»).
Опознайте меня, мои звезды, меня опознайте,
Чтобы вместе, как прежде,
в ночи, в бесконечность лететь.
Так мы поймем «позднего Фомина», с его неожиданным на первый взгляд интересом к «шестому технологическому укладу», к гетеродоксальным экономическим теориям (Чаянов и его крестьянская утопия). И – с совсем уж «нетипичным» для архаиста-почвенника, певца прадревней Артании интерес к ультрасовременным методам агротехники, пермакультуре Зеппа Хольцера, и сверхлегкой малой авиации. Этот интерес, оставшийся во многом не замеченным, ввиду «моррисовского» разброса и разнообразия интересов и проектов, которые начинал Фомин, крайне важен.
Разгадка – в словах в последнем интервью: «Бог ведет Адама в космос. Или вы думаете, Бог создал все эти мириады галактик, квазаров, звездных туманностей, черных дыр просто для того, чтобы мы в радиотелескопы на них любовались? Бог – величайший математик, физик, биолог, архитектор Вселенной». Как было сказано там же – возвращение к истокам национальной идентичности — не догма, но средство самопознания и строительства будущего. Пожалуй, это можно назвать формулой будетлянства по Олегу Фомину-Шахову.
P.S. Просто об Олеге
За что я, пожалуй, в первую очередь, благодарен Олегу, так это за то, что он научил – в жизни, помимо "столкновения интересов", "позиционирования" и прочего "существования белковых тел", есть место чуду и тайне. И тому научил, что заповедная параллельная Родина, воды Китежа и берег Артании не были когда-то in illo tempore, во время оно, но есть здесь и сейчас.
Ведь линейное время придумали, чтобы нас всех одурачить. А так-то – все мы, уже умершие, сейчас живущие и еще не родившиеся (да, жизнь!) сосуществуем в волшебном пространстве Святой Руси. Которая никуда не делась – надо только присмотреться к узорам на листве и стенах соборов, и прислушаться к ветру в поле и песне в лесу. И все-таки – здесь и теперь – очень не хватает тебя, дружище.













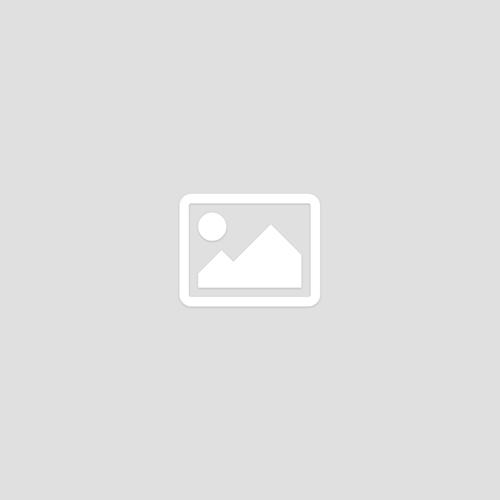





Комментарии (0)