ИЗУМРУДНОЕ ВАРЕНЬЕ
Ты послухай меня, красна панночка!Загадаю тебе три загадки:Коли ты вгадаешь — я до батьки пущу;А як не вгадаешь — я до сибя возьму.Ой що росте до без кореня?Ой що бежит до без повода?Ой що росте до без всякого цвету?Камень росте до без всякого кореня;Вода бежит без повода;Папорт росте без всякого цвету!Девчинка загадочки не вгадала,Русалочка её заласкотала...(старинная народная песня о русалке)из сборника живой этнографии«Зелёный Колодец и Одна Колокольня» К.А
Я горевала над рассадой — мокрица забила, зарастила астрочки; змеи выжрали всю мякоть из луковиц сортовых ирисов.
— Вот и нечего было, — моя бабка гляделась довольной. Такие цветочки для неё баловство. Краса хоть и явная, но по части ягод пустая, и как травка непотребима. Одним словом — баловство.
Начало мая — плодовитые Рыбы при убывающей Луне сменились бесплодным Овном. Новолунье. Георгины ещё не выставили тонкие сиренивые хуи, но грядки под зелёнь готовы. По бабкиным запискам тем днём значились уборки.
А полдень как хорош — сливы уже цветут; рябина, яблоки, вишня — обутонились, набухли. День, другой — весь сад заневестится. Красота. Застыла я на крыльце.
И тут крыжовник, тот, что справа, словно сам из себя как выпрыгнет, и — обратно. Прищёлкивание, хохоток, звоночки, хлюп-хлюст — застрекотали друг с другом ветки. И будто тень какая-то елозит рядом; траву мнёт, к колючим столбикам-корешкам жмётся.
— Смотри-ка, русалка к тебе объявилась, — и бабка кивнула на дрожащий клубок. — В конец кусты заласкает сегодня («сегодня» в значении «этим летом», «в этом году» — Т.В.). Посечь надоть, берёзкой посечь.
Крыжовник подлётывает, брызжет смехом, воздух над ним розовеет.
— Она, мымыра потеренная, весь вкус отнять может, или, напротив нашепчет, надарит изумрудной ласки — и ягода будет! Только банки готовь! А теперь посечь! Ты лить на ей будешь!
Так я познакомилась с настоящей русалкой. Забавно её бабка обозвала «мымырой потеренной»… «Мымыра», — это кикимора, может? Душит, ведь. Мара? Служка Мокоши? А с чего «потерянная»? Кое-где русалки-детки обзываются «потерча», «потерчатки». Зеленин вывел вполне очевидное: «Для нас неясна этимология этого слова, но мы предполагаем две возможности; или потерча = предполагаемому па-чертёнок, т.е. маленький и плохенький чёрт, или же оно в связи со словом потерянный, в смысле заблудившийся, погибший». На мой взгляд, Зеленин не доводит мысль — чёрт заблудил, закрутил, оттуда и погибель. Заласкотал! Защекотал! Кстати, забайкальские казаки называют русалок «чертовками», уральцы — «шутовками». Кульчицкий описывает одно интересное поверье бессарабских малорусов:
На праздник Сошествия Св. Духа жители с. Ставучан готовят водку на полыни, что бережёт от всякой нечести, которая сейчас в ветрах играет свадьбы. Те, кто не побеспокоился о полынной настойке (так же полынь и любисток носят на себе, за поясом или на шее), оказываются «гостями» чертовой свадьбы. Нечисть, налетев в вихре на человека, хватает и уносит его. В результате несчастный подвергается таким щипаньям и ласкотам, что редко когда остаётся жив.
У моей бабки одной полынной водки рецептов двадцать в тетрадку приколото.
300 гр. полынных верхушек
соль
1 кг. мёда
10–12 литров водки
Полынь растереть с солью, залить водкой и настаивать неделю. После добавить мёда и перегнать.
А вот этот посовременней:
200 гр. полынных верхушек
70 гр. корней кардобенедектина
50 гр. шалфея
50 гр. кудрявой мяты
50 гр. корней девясила
50 гр. соли
25 гр. имбиря
25 гр. корицы
25 гр. майорана
25 гр. тмина
25 гр. ромашки
Специи как следует истолочь в ступке, залить 18 литрами водки (домашней), настаивать 8 дней в тепле, перегнать.Подсластить сиропом (1,5 кг. сахара на 5 л. воды). Дать водке настояться, и профильтровать.
Не обидет нечисть тех, кто носит с собой корень любистока. «Трава любит ростет при полониках и при красных розных борах, при старых силных местах, при великих реках на раменских местах. Ростом в локоть, цвет рудожелт или походит на бело, среди цвету шишечка, корень что лодышечка барановая». (Зелейник, XVII)
Бабка уже нарезала берёзки, особо не выбирала, гнула какая в руку лезла. Деловито, весело веник свой оглядела, подумала и добавила крапивки. Незаметно как-то сунула мне ковшик, и бочка с водой рядом.
Куст бесновался, радугой ходил над ним воздух. Русалка — уже не тень, а чёткое, по-человечьи явное тело, кривлялась, корчила рожи.
В Белоруссии верят, что русалки бегают нагими и кривляются из злокозненности, чтоб увидевший их, сам искривлялся до смерти. Такая русалка подобна одной из дочерей Ирода, лихорадке, имя которой «...Корчея: коего человека поймаю, тот человек корчится руками и ногами, не пьёт, не ест» (из заговора). И обе они из «заложных покойников», — добавил бы Зеленин.
Какой-то хитростью бабка вызвала её из куста. И хотя там русалка казалась голой, к нам вышла приодевшись — кофта, юбочка — всё скромненько, чистенько, а волос один к одному гладок.
«На кривой берёзе Русалка сидела, Рубаценки просила», — это не про неё. Да и вообще, многое не про неё, как я потом поняла, а что про неё — то наоборот понимать надо.
— Молодая берёзка, берёзкина дочка! А она это любит, когда её молодой, — приговаривает бабка. А русалка хохочет, всё подставляет раскрасневшиеся бока, то веткам, то ковшику.
— По заднице хочет, будто сорняк она какой (сорняки, вырвав, обязательно бьют лопатой по задку — чтоб землю с собой не увели — Т.В.). На изумрудное варенье — бью! Чтоб крыжовник уродился — секу! Встречаем — бьём! Провожаем — сечём! — всё бормочет бабка. — И крапивку она любит, конечно!
Те же белоруссы вешают по хлевам крапиву и венки берёзовые, чтоб русалка не пришла...
Воздух визжит. Русалка прыгает между нами, как растрёпанный цветок. Бабка всё сечёт, я всё поливаю. Вроде кровавится она, а присмотрелась — нет, не то, не кровь это вовсе.
Намахавшись, бабка свои «розги» куклой свернула, красным платком покрыла и сожгла, а золой вкруг куста посыпала — сдобрила. Ковш у меня отняла, зачерпнула, и резко так на русалку водой бросила. Та оголилась, жмурится, всем телом довольная, по траве катается. А травка-то сама под неё стелется.
— И проводили, и повстречали! — бормочет бабка.
— Откуда она вообще взялась, русалка-то, из воды?
— Она любит! — туманно отвечает бабка. — Всегда к лету выходит кусты, траву ворошить! Может из колодца, верней из той воды, что в земле. Главное, чтоб не серчала, а то и задушит куст или тебя... тоже может.
И.П. Калинский пишет: «По представлению народной фантазии, русалки считаются жительницами вод, существами нагими и прекрасными» (Калинский, Месяцеслов, 470) Они живут в воде незримо, но на русальную неделю начинают выходить из воды... С.М. Снегирёв сообщает, что русалки «живут в реках и с Троицына дня или с Семика до Петрова дня странствуют по земле, витают в лесах, избирая себе приютом старые деревья, особенно дубы. Они качаются на сучьях...» (Снегирёв, Русские простонародные праздники). О том же говорит И.П. Калинский: «На неделю Св. Отцов они выходят из своих подводных жилищ, плещутся в полночь при луне на поверхности воды или же качаются в лесах на деревьях. Такие же наблюдения приводит П.В. Шейн: «По убеждению крестьян дер. Озерков (Новогрудского уезда Минской губернии) русалки появляются из воды весной, около Великого Четверга, и живут на земле до поздней осени. Живя в лесу, они обитают на высоких деревьях, как, например, на дубе, липе и пр.» Поднимаясь из воды на русальной неделе, они, по разным свидетельствам, живут на земле до Петрова дня или до глубокой осени. ...Так как русалки — существа водяные, их выход на поля обеспечивает земле нужную влагу и вызывает обильный рост хлебов». С.В. Максимов пишет: «Ночью при луне, которая для них ярче обычного светит, они качаются на ветвях, аукаются между собой и водят весёлые хороводы с песнями, играми и плясками. Где они бегали и резвились, там трава растёт гуще и зеленее, там и хлеб родится обильнее». Шейн сообщает из Бобруйского уезда, что русалки «около Троицына дня выходят на сушу и остаются на ней в течение всего лета. Днём оне тогда ходят по полям и лесам». «Живут русалки в густой ржи и в горохах, и поэтому ими стращают детей, чтоб они туда не ходили».
— Всё же встретили мы её или проводили? — пристала я.
— Чтоб уродилась ягода! — Ответила, называется! И ещё смотрит на меня, как на дурочку.
До Пасхи Русалок (Семик, «Русальчин Велыкдень») почти 6 недель, но такой календарь не от земли и не от неба.
Потом я не раз хотела позабавить бабку рассказами о так называемых «русальских обрядах» в комментариях Зеленина, Проппа, Рыбакова и прочих, иже с ними, да та и слушать не стала: работы много, русалка и без того, мол, время отняла, не до глупых теорий.
А между тем, «проводы или похороны русалки» — главные обряды Семика.
Обычай «хоронить русалку» отмечен в Михайловском уезде Рязанской губернии. Совершается здесь он так: в заговенье перед Петровым постом делают из тряпок куклу величиною с шестинедельного ребёнка, намалёвывают ей нос, глаза, рот, наряжают её в платье. Сделавши из досок гроб, кладут туда куклу, покрывают её кисеёю и убирают цветами. Парни, девушки и молодые бабы несут гроб на берег реки; девушки наряжаются — кто священником, кто дьяконом, кто дьячком, делают кадило из яичной скорлупы и поют: «Господи, помилуй!» Все идут со свечами из стеблей конопли. У реки русалке расчёсывают волосы и прощаются с нею, целуя её, причём одни плачут, другие смеются. Заколотивши гроб, привязывают к нему камень или два и бросают в воду. После этого обряда поют песни и водят хороводы (Шейн по записи А. Маркова)
Во многих местах, особенно по Рязанщине, «русалку» (чучело женщины) в «русальское заговенье» с песнями и плясками выносили из села и бросали в костёр, а потом через этот костёр прыгали, чтоб предохранить себя от болезней, злых духов и колдунов.
В отличие от «похорон», как отмечает Зеленин, в «проводы» русалку, чаще всего, изображает девушка с распущенными волосами, в одной рубашке или даже без неё, часто украшенная цветами, иногда верхом на кочерге и с помелом через плечо. Такую русалку весело провожают обыкновенно до лесу или до ржаного поля, где она скрывается от провожающих. «Мы русалку проводили, — кричат тогда все, — можно будет везде смело ходить»... или же поют:
Правадили русалачки, правадили,Щоб ваны до нас не хадыли,Да нашего житечка не ламили,Да наших дивачек не лавили.
...Обряд изгнания русалок отличается от описанного обряда «проводов» только тем, что в нём к русалкам относятся с меньшей почтительностью. В Данковском уезде Рязанской губернии обряд изгнания совершается так: русалок изображают девушки в одних рубашках с распущенными и перекинутыми на лицо волосами. В течение всей русальной недели, по вечерам, во время хороводов, они бродят то по улице, то по задворкам, то прячась в конопляники; стараются пугать людей, а поймав детей, трясут их. В полночь на заговенье все участники хоровода вооружаются палками, косами, кнутами и с криком: «Гони русалок!», со звоном в косы и щёлканьем кнутов бросаются на русалок, которые утекают со всех ног. Когда им удаётся спастись на землю соседней деревни (куда их стараются не пустить), преследование прекращается и все возвращаются домой: «Ну, теперь прогнали русалок!»
(Зеленин)
Шейн описывал интересную церемонию, проводимую в Зарайском уезде:
Баба и девушки собираются на улицу, «выходит и русалка в одной рубашке с распущенными волосами, верхом на кочерге, держа в руках помело через плечо. Она в таком виде едет впереди, а за ней толпой идут девки и бабы, бьют в заслон. Ребятишки бегают вперёд, то и дело заигрывают с русалкой, хватая её кто за руку, кто за рубаху, кто к кочерге прицепится, приговаривая: «Русалка, русалка, пощекочи меня!» Вся эта толпа, с русалкой впереди направляется ко ржам...» Во ржи русалка старается кого-нибудь схватить и пощекотать, другие защищают преследуемую. «Тут пойдёт свалка, пока ей не удастся вырваться и схорониться во ржах. Теперь кричат все: “Мы русалку проводили, можно будет везде смело ходить!” и разбредутся по домам. Народ же всю ночь, до самой зари гуляет на улице».
Обряд, и без того изрядно перекрученный и местами траченный временем, в последствии был окантован христианской символикой. Получилось некое карнавальное действо, в духе Средневековой Европы, «праздник дураков», «похороны папы»... Н.П. Гринькова записала со слов воронежской сказительницы А.К. Барышниковой (Куприянихи):
Об обряде вождения русалок здесь говорили «русалку хоронють». Куклу, одетую в белое, клали на носилки. Одна из девушек наряжалась попом. Стебли тростника изображали свечи, коврик или дорожка — рясу, стоптанный лапоть кадило. Процессия направлялась в ржанное поле, где куклу раздевали. Фигуру русалки и палки от носилок бросали в лог, около ржанного поля. При этом А.К. Барышникова пояснила, что если бросают русалку в ржаное поле, то лучше будет хлеб расти. В последний раз этот обряд совершался в 1936 г. (Обряд «вождение русалки» в селе Б. Верейка Воронежской области)
Мысль о средневековых карнавалах навевают и болгарские русальцы, которых описывал Д. Маринов, а следом Рыбаков, и чья тайна из тех, что на виду, но не прочтена.
Русальцы — дружины специально подготовленных для проведения русальских празднеств танцоров и музыкантов. Они отличаются высокой нравственностью. Их задача — ублаготворить русалок и тем обеспечить хороший урожай. Попутно они лечат больных. Русальцы беспрекословно подчиняются своему главарю, должность которого нередко является наследственной. Во всех обрядах, проводимых русальцами, очень важное место занимают различные священные травы и злаки (перуника, чемер и др.). Главным обрядовым предметом русальцев является священный жезл — «тояга». Жезл делается из явора или ясеня. На конце тояги выдалбливается дуплецо, в которое закладывают чародейные травы, и отверстие закупоривают. Тояга применяется для экстатических магических плясок, для охраны знамени с травами, для разбивания горшка с чудодейственными травами. В течение года, в промежутке между русалиями, тояги хранятся как священные предметы у главаря; тояги служат десятки лет и передаются от отца к сыну.
(Рыбаков)
Свечерело. И от земли, и с неба теплынько, розовенько; солнце за сад свалилось, и нет ничего слаще этого мая.
— Всё же смотри, — тыкнув глазами на свернувшуюся у крыжовника русалку наказывала мне напоследок бабка. — Осерчает — удушит! Кстати, и сама пощекотать любит. Ты это осторожней! Для ней-то без разбору, что девка, что парень, что куст. Прикипит ещё, притащится под одеяло.
И правда! Той же ночью я от неё проснулась. Сидит рядом, пальцы почти прозрачные, одеяльце отвернула и гладит мне. И будто рябь от звёзд по ней ходит. Увидела, что я глаза открыла — юркнула ближе, прижалась. Тёплая такая, ласковая. Я-то думала, после бабкиного «секу на то, секу на это», всё тело её сплошь синяк да царпины, а она напротив — кожа, будто бутон розовый. А утром убежала в сад, весь сорняк на венки пустила. В шкафу красный клубочек у меня выглядела, стащила, той ниткой травинки и стягивала. После венки на яблони развесила. Бабка пришла, увидела, но не сказала ничего, ни вздох, ни кивок, ничего — будто и нет здесь русалки, не резвится по саду, не щиплет землю, не милует яблони. А соседки её в тот же день углядели. « — Что, — спрашивают, — кумушка (у нас все бабы друг дружку так кличут), подруга к тебе из Москвы приехала? — Ну, да, — соглашаюсь я. — Приехала, кумушка...»
Кумушка, голубушка,Серая кукушечка!Давай с тобой, девица,Давай покумимся!Ты мне кумушка,Я тебе голубушка!Кумушка, голубушка,Горюшко размыкаем!Будешь мне помощница,Рукам моим пособница!(троицкая обрядовая песня)
Среди прочего, на русальной неделе почти повсеместно осуществлялось «кумление». Коротко говоря, этот обряд представляет собой обмен ритуальными предметами и целование друг друга сквозь венки из трав или ветвей троицкой берёзки.
Обряд кумления вообще носит исключительно женский характер:
«По наблюдениям А.В. Зерновой..., происходит кумление не отдельных пар, а всех девушек между собой: “В селе Большое Прокошево во время троицкого хоровода происходит кумление между собою не отдельных пар, а всех девушек. Плетётся один венок из берёзовых веток, который по очереди одевает каждая девушка”. (Зернова, Материалы, 29). Это, следовательно, не только союз одной женщины с другой, а союз женщин между собой. Семик — исключительно женский праздник. И.М. Снегирёв пишет: “К кумовству допускались только женщины”. О том же говорит А.А. Макаренко: “Четверг перед днём Св. Троицы называется "Семиком" и почитается девушками как исключительно их праздник”. Это свидетельство подтверждается многими записями... По точному смыслу обряд кумовства есть создание союза женщин между собой. Дело здесь не в парах, а во взаимной солидарности женщин. Второй признак этого праздненства состоит в том, что целуются между собой не просто, а сквозь живые венки берёз или под берёзами, связанными верхушками. Символика семицкого венка нами рассмотрена выше. Он содержит и задерживает в себе растительную силу земли. Женщины, целуясь сквозь эти венки, приобщаются к этой силе не как индивидуальные существа, а как существа женского пола. Если смысл ритуальной распущенности состоит в том, чтобы рожающее начало передать земле, то здесь мы имеем обратное соотношение: рожающая сила земли должна передаться женщинам. Можно высказать предположение, что обряд кумления подготовляет женщин к будущему материнству».Пропп
По моему мнению, та часть «русальных» обрядов, которая зовётся «проводами русалки», в изначальном своём варианте не что иное, как то же кумление, только не девиц друг с другом, а всех уже покумившихся с русалкой, носительницей «зелёной» силы, жаждущей этой силой поделиться, а взамен «покушать человеченки», стать на мгновенье одной из людей. Интересно, что одновременно в «проводах» можно увидеть как инициатический момент (для русальцев), так и ритуальное убийство божества (его олицетворяет сама русалка). В приведённых выше примерах к первому моменту можно отнести попытки «русалки» схватить и пощекотать, ко второму — сообственно сами «проводы-похороны». Подтверждение тому, что дополнительной целью русалки является сближение с кумящимися, обнаруживает себя то тут, то там в фольклорной мозаике. Например:
Кумушки, голубушки!Пойдёте вы в венки,Возьмите й меня!Сорвите вы по веночку,Совейте и мне.Пойдёте вы на Дунай-речку,Возьмите й меня.Покидайте на Дунай веночки,Киньте и мой.Все венки поверх воды,А мой потонул...(Смоленская обл.)
Эта песня, если присмотреться, легко реставрируется до некоего диалога между собирающимися на кумление девушками и кем-то, кто хочет с ними, да не может. Такие мотивы, как кумление, вода, потонувший венок, время исполнения песни (речь идет о той же Семиковой, зелёной неделе), дают возможность предположить, что речь идёт о русалке.
«Об отношениях русалок к людям, кроме общеизвестного прельщения и защекотывания ими молодых людей, отметим ещё следующее: русалки «похищают у заснувших без молитвы женщин нитки, холсты и полотна, разостланные на полу для беления; украденную пряжу, качаясь на древесных ветвях разматывают». (Зеленин)
Здесь, как мне кажется, так же отчётливо видно стремление русалок «покумиться» с женщинами, или, скорее, с некой женской группой, «стать вместе», «стать силой». Предположив, что похищаемые нитки и полотна являются материалом для создания так называемой «обыденной одёжи», мы получим представление о характере этой группы и её силе.
Вначале напомню, что слово «обыденный» означает здесь «однодневный, сотворимый за сутки». Соответственно, обыденная одежда — это одежда сшитая за день (или за ночь, или в течение дня и ночи).
Д.К. Зеленин в статье «Обыденные полотенца и обыденные храмы» приводит 15 соответствующих примеров. Посмотрим на два из них:
- А.Е. Богданович в своей книжке «Пережитки древнего миросозерцания у белоруссов» сообщает об интересующем нас обычае следующее: «Другим (после опахивания — Д.З.) средством после мора считается однодневное полотно. В назначенный день, до восхода солнца, собираются девушки со всего села в одну избу, и каждая из них приносит с собой по горсти льна. Они дружно, но в глубоком молчании принимаются за работу: прядут лён, снуют основу, ставят кросна и ткут полотно. Когда полотно готово, все жители выходят за деревню и обходят вкруг неё, причём девушки, ткавшие полотно, несут его над головой с заунывным пением: «аюга!» Когда сделают полный обход, то на том месте, с которого вышли, раскладывают небольшой огонь из щепок или лучинок, принесённых с каждого двора. Две девушки держат за концы полотно над огнём, а все жители деревни переходят через огонь под полотном и переносят детей и больных. Когда все выполнят эту церемонию — полотно сжигают на том же огне. Всё это должно быть проделано в течение одного дня, с восхода до заката солнца
- В селе Барани Борисовского уезда Минской губернии во время бездожия «женщины всей деревни собираются в одну хату спозаранку и в течение дня стараются общими силами выпрясть известное количество льна, потом выткать из пряжи холст, который и называется «обыденком». Этот холст они жертвуют в церковь, в полной уверенности, что Господь исполнит их желание и пошлёт дождь». (Шейн, 1902, с. 295, взято из церковной летописи Баран. церкви)
Понятно, что всё дошедшее до нас в подобных списках, являет собой сильно ободранный и плохо привитый сад. Здесь не место для реконструкции, нужно отметить лишь, что столь выпуклая во втором случае христианская символика не более чем позднее наслоение, а в изначале холст, через соответственный ритуал, «земля дарила небу».
Итак, из приведённых примеров видно, что ритуал создания и потребления группой женщин «обыденного» полотнища, способен, как избавлять от хвори, так и привлекать нужную земле погоду. Подобные способности, только нацеленные на противоположное, приписывались и русалкам: они «могут насылать на поля сокрушительные бури, проливные дожди, разрушительный град» (Максимов), о девках-лихорадках и их русалочьей природе я уже упоминала.
Раздаю я цветы благовонные, они помогают нетвёрдым духом, и лилии цвет прекрасный — символ веселья и радости, и корни трав укрепляю и множу, и повелеваю есть ноги, головы и потроха, поскольку они порождают флегму ц красную желчь, отчего лихорадка наступит и сухота в суставах, — гласят «Первосущности каждого месяца» о мае.
Она прожила со мной ещё с неделю. Была вся какая-то опрятно-неопрятная. Поведением, временами, будто ребёнок-даун. Приезжаю теперь в город и сразу ясно, сколько в ней чрезмерной естественности было. Сикала, прямо где захочет — на грядку, под яблоню, на утоптанную дорожку — и сразу получалась парная лужица. Пописает и тут же почешется. Сначала я даже отворачивалась, а после только любовалась. Была она как птица или листок. Всё слонялась, металась, летала по саду. А то — вдруг на китайский лимонник попу пристроит. А он, лимонник, как раз в цвету — сначала поколет, а после поцелует всему своими розанами.
В цветении этот куст красив необычайно. Розаны в четыре больших лепестка-сердечка, того красного оттенка, который иначе чем насыщенным и не назовёшь. Манящий куст. Ну, и русалка моя попой своей весьма его почитала.
И не было, кстати, в её теле той спешной жадности, что обычна для любовников даже в самую длинную любовь. Порой она меня как ребёнок игрушечную уточку в ванной приминала; порой, как щенок между ног тыкалась, лизалась. Ещё она потягушкой великой была и сладкое любила. Конфеты таскала. Раз попробовала трубочку с варёной сгущёнкой — аж рассыпалась, по траве закаталась, так ей в удовольствие эта сласть пришлась.
Она ушла, придушив напоследок маленький крыжовник, веточку пока ещё — угрозы для сада никакой, но обидно, хороший кустик вырос бы после.
— Не удержалась! — фыркнула бабка. — Нутром! Естеством такая! Нежить!
Русалка ушла в тот день, когда окончательно ясно стало — слива отцвела, и на её место заступила черноплодка. Со стороны кажется, что черноплодка цветёт белым, но это видимость, на бледных лепестках торчат чёрные крупинки, угри-червячки, вяжущий вкус с гнильцой людской.
Вот и выходит, нежить она такая ласковая, любовная, душу отворяющая, куда там человечкам, девочкам-мальчикам...
P.S. Что до изумрудного варенья, то есть два рецепта.
- Соберите крыжовник немного недозрелый, вымойте, отщипните «носик» и плодоножку. Мелкие ягоды можно варить целиком, из крупных лучше вынуть зерна (надрезать сбоку и удалить семена). Переложить крыжовник промытыми вишнёвыми листьями и обдать кипятком — тогда ягоды не потеряют своего зелёного цвета. Теперь вынести ягоды в прохладное место на несколько часов. Тем временем сварить сироп, как обычно (на 1 кг. ягод 1,5 кг. сахара). В кипящий сироп бросить подготовленные ягоды, удалив вишнёвые листья, выключить огонь и дать постоять 2-3 часа. Опять поставить на огонь, довести до кипения, снова снять и дать остыть. Затем уже варить до готовности и охладить как можно быстрее, чтобы не потеряло цвета, для этого можно поставить таз с вареньем в холодную воду. Когда совсем остынет, разлить по банкам.
- «…Некоторые из Адептов — и среди них Василий Валентин — называли этот незрелый плод зелёным витриолом, обозначая его горячее, огненное и солевое естество, другие Изумрудом (Emeraude) Философов, Майской Росой (Rossedemai), Травой Сатурна, Растительным Камнем и тд. “Чтобы ввести в заблуждение безумцев, мы даём нашей воде имена листьев, деревьев — всего, что принимает зелёный цвет”, — пишет Мастер Арнольд из Виллановы». (Фулканелли «Тайна Соборов»)
Автор: Татьяна Василенко
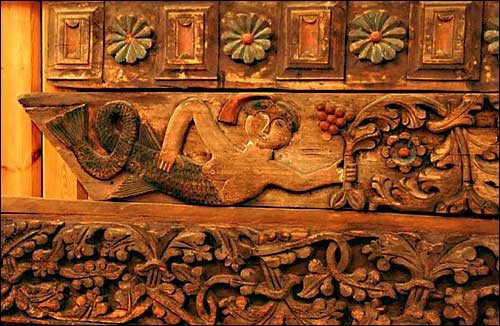













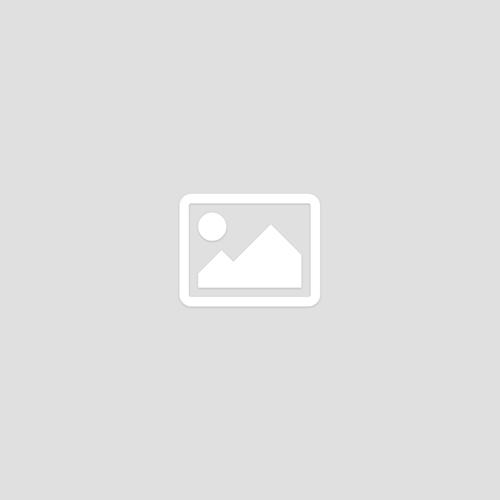





Комментарии (0)