Православие и «Гиперборейская теория» (памяти Олега Фомина)
В 94-м году мне в руки попала небольшая книжка А.Г. Дугина – «Гиперборейская теория». В ней очень кратко и ясно были изложены основные идеи Германа Вирта (Herman Wirth), человека посвятившего свою жизнь реконструкции мистерии Великого Юла, Зимнего Солнцестояния, точки в которой умирает и вновь возрождается Свет Севера
Я строитель тьмы среди белого дня,Я учитель тех, кто мудрей меня,Я наследник брошенных в общий ров,Созидатель гнезд на краю миров,Собеседник тех, кто рожден немым,Созерцатель всех, кто давно незрим.Ю.Н. Стефанов
В своем главном труде «Происхождение человечества» сам Вирт говорит об этой мистерии такими словами: «Не существует более великой тайны в бытии человека, чем тайна жизни и смерти, умирания и становления. […] Волшебный, глубочайший образ является нам в природе – это Год Божий. Много дней составляет Год, и в каждом из дней снова открывается образ Года: рождение Света, из которого происходит вся жизнь, его подъем на высшую вершину, и его спуск, смерть, нисхождение, чтобы снова восстать. […] Круговращение, движение по кругу, вращение само по себе является высшим космическим законом Бога, этическим Основанием Вселенной всего бытия. На этом принципе основывается всякое Богопереживание и всякое правосознание» (цит. в пер. А.Г. Дугина). Для меня эти строки несли (и несут до сих пор) Откровение. Если всё это так, думал я, то мои предки не были звероподобными дикарями, но уже со времен своего начала, ещё на землях Прародины, знали о Логосе мира и о Его грядущем Воплощении. И если это так, то сама человеческая природа Спасителя присутствует в мире сначала как грядущее, потом как настоящее или прошедшее. Присутствует никуда не исчезая, но являя себя во всех трех измерениях линейного времени, т.о. как бы «продолжается наравне с вечным, как бы некое временное движение и протяжение, которое тянется подле и вместе с тем что — Вечно», как говорил св. Иоанн Дамаскин («Точное изложение православной веры» 2, I). А значит и христианская Традиция – не нечто, привнесенное моему народу извне, но то что присуще всем без исключения народам в разное время в разной степени ясности.
Если есть книги, которые способны управлять судьбами, то для меня «Гиперборейская теория» оказалась именно таковой. Начав читать её, я не узнавал что-то совершенно новое, я просто узнавал своё. Она заполняла те пустоты и лакуны души, которые как раз для этой теории и были предназначены.
Говоря о книгах вообще, следует ещё добавить вот что. В 90-е книги ещё «прочитывались». Их было мало, они были очень труднодоступны. Поэтому читающему хотелось получить из книги всё вложенное в текст, включая и то, о чём сам автор предпочел умолчать. Эпоха электронного диагонального чтения ещё только начинала вступать в свои права. «В диалоге Джордано Бруно "Ужин в пятницу" один из участников спрашивает: зачем вообще писать книги? Эффективна лишь устная передача знания, эффективно лишь содержание. Ему отвечают: книги пишутся не для запоминания, а для напоминания» – так говаривал Е.В. Головин (о котором я тоже вскоре узнал), и добавлял, – «вполне платоническая мысль».
Так я начал наконец понимать, что в мире интеллектуальных дорог и тропинок – «моё», а что «не моё», и разумеется, погрузившись в тему глубже, после сайта «Арктогея», набрёл и на «Артанию». Возникло желание узнать имя автора проекта. Им оказался Олег Фомин. Надо сказать, что политика сайта была очень открыта. И когда я набрался смелости, и в первый раз в жизни, на совершенно незнакомый ресурс предложил выложить свою статью, то она появилась почти немедленно. Открытость вообще была присуща Олегу, он вполне свободно общался с совершенно разными людьми. Как-то раз мы зашли с ним в отделение телекомпании НТВ, где все сотрудники оказались почему-то кришнаитами и приветствовали его появление своим мистическим слогом. Олег очень быстро сообразил, что «Аум» очень напоминает дораскольную знаменную распевку «Хом», чем и ответствовал русским неоиндуистам, салютуя им специфическим жестом древнеиндийского приветствия. Странным образом эта открытость не размывала ареола некой тайны, и как потом мы шутили – «искривления пространства, вызываемые феноменом Фомина». Разумеется, таинственная составляющая была и в моем с ним «он-лайн» знакомстве. Очень скоро мною были получены права модератора (к сожалению, по моей нерадивости и сложному периоду жизни, практически не освоенные). Почему всё случилось так быстро? Пока что об этом я предпочту умолчать. Скажу только, что мне это известно, и это было, разумеется, не случайно.
Что мне нравилось в «фоминском» прочтении традиционализма? Это сочетание глубокого эсхатологического переживания (а он вообще всё переживал очень глубоко!) и русского космизма с его бесконечными неисследованными возможностями реализации. «Мы ещё будем строить храмы на Марсе и крестить в его реках, которые потекут после «терраформирования» наших русских детей» - заявлял он.
В своём последнем интервью газете «Завтра», он говорит об этом более серьёзно и более пространно: «Есть Адам и у него свои цели и задачи. Ему нужно идти в космос, заполнять собой звезды. Я как Циолковский — фанатик освоения космоса. Он говорил: «Земля — колыбель, но нельзя вечно жить в колыбели». […] Бог ведет Адама в космос. Или вы думаете, Бог создал все эти мириады галактик, квазаров, звездных туманностей, черных дыр просто для того, чтобы мы в радиотелескопы на них любовались? Бог — величайший математик, физик, биолог, архитектор Вселенной. У Него нет случайностей. Всё создано промыслительно».
Это довольно сильный теологический аргумент. Если мы вспомним, что Христос сошел только на Землю (а это именно так, ведь у Него, как Богочеловека, возможна только одна мать, единственная и исключительная – Богородица) – то разумеется, встаёт вопрос о том, для кого он оставил все иные миры? Такая постановка вопроса возможна единственно в рамках христианской ортодоксии. В жестко креационистких доктринах Вселенная – это только акт демонстрации всемогущества Абсолюта, который показывает человеку ничтожность его сотворенной природы, полностью отличной от Божества. В христианстве Вселенная – акт любви, и её природу частично несёт сам неотмирный Христос. Следует добавить, что с двумя этими фактами – наличием огромного количества планет, многие из которых не могут не напоминать Землю; и отсутствием на них жизни согласно и подавляющее большинство серьёзных представителей академической науки.
Всё творчество Олега (за исключением поздних сухо-деловитых и «теологически стерильных» публикаций в жанре т.н. «пролайфа») пронизано идеей Священного Севера. Этот Север входит в мир под разными именами и в разных схемах терминологии – это «Артания», «Третий Муром» и много чего ещё. И здесь всплывает тема об «ученичестве» Олега у поэта-мистика Е.В. Головина. «Возродите легенду о Севере…» призывал в одной из своих песен, под названием «Черные знамена» Е.В. Головин. Тему «чёрных знамён» и «древнего тевтонского мифа» можно конечно было бы обойти стороной, но как говорится – «из песни слово не выкинешь». Поэтому пару слов следует сказать и об этом. Надо понимать, что Головин был человеком, живущим в поэтическом поле алхимии. Всю провокационную политизацию, которая звучит и в тексте этой его безусловно концептуальной песни, разумеется адекватно может воспринять только тот, кто волею судьбы также погружен в поле этой «весёлой науки». Один из алхимических адептов Гебер, резюмируя в своей "Summa" средневековую алхимию пишет о ней так: «Не надо писать о магистерии совсем загадочно и не надо также объяснять слишком ясно и доступно. Я предпочитаю излагать так, чтобы мудрые поняли, умы посредственные заблудились, а дураки и безумцы сломали головы». Мудрец в данном случае не тот, кто знает больше остальных – подобные вещи вообще невозможно «хорошо знать». К ним можно только находиться в определенной степени приближения. Мудрец – тот, кто сумел приблизиться и не заблудился. Он хорошо знает о недостаточности человеческого знания и недоверие к «великим учителям современной духовности», о котором говорил Р. Генон, обязательно должно быть свойственно такому человеку. А ещё мудрец знает, что есть вещи очень серьёзные, и не очень. И лучше к очень серьёзным вещам подходить с простотой и смирением, – теми качествами что рождают детский смех. Фомин умел смеяться и смешить. Поэтому понял, а приблизившись не заблудился.
Правда незадолго до смерти Олег публично отрекся от ученичества у «язычника Головина». «Отрёкся»…, но ведь он никогда никакого «язычества» и не принимал! Это был самый настоящий ортодокс, глубоко и очень серьёзно верующий человек. Ну а ещё «закоренелый Злыдеарх Крутицкий, как ни Крути, и Староканавинский, курлыка Красногорский, великомяученик пролайфа и Всея Сети» – как он сам себя называл. Я вспоминаю сейчас день нашего личного знакомства – праздник Пасхи в Нижнем Новгороде 2010-го года. Тогда, по непонятной для никого причине в кафедральном соборе в крестный ход вышла лишь малая часть присутствующих на службе людей. Этот, с т.з. большинства «воцерковленных» прихожан «незначительный эпизод», был воспринят Олегом, как собственная сердечная рана. Когда мы вышли из храма он сказал: «Знаешь, а ведь если мы не видели хода, это не значит, что его не было». Я не стал тогда переспрашивать, почему так... На следующий день состоялось выступление Олега Фомина под несколько эпатажным названием – «Слава Русской Пасхе». Оно сопровождалось бесплатной раздачей пасхальных яиц и проходило в обрамлении красно-черных стягов. Оба эти цвета символически изображают Смерть и Воскресение, что как раз и соответствует православному пониманию Пасхи. Но не у всех конечно же… Охрану торгового центра, который находился неподалеку, несмотря на наличие официального разрешения, это мероприятие повергло почти в шок. Также недоверчиво озирались и его «добропорядочные посетители» – законопослушные потребители материальных благ. Иначе и быть не может. Символика мира Традиции, врываясь в повседневную секуляризированную реальность всегда вызывает у граждан этого посю-стороннего мира ступор и частое моргание глазами. Черный и красные цвета вообще очень любимы русским народом. Чёрная форма была у ордена опричников во времена Ивана Грозного, в черном ходил и сам Фомин. Посвящения в этот «чёрный орден», гордым возложением руки на правое плечо, был удостоен и я, грешный. Так он передал, посвящение, полученное им самим ранее от другого человека. Кто знал Олега хорошо, или внимательно слушал его лекции, зачитанные в рамках проекта «Новый университет», тот поймёт, о чем речь. На этом, думаю, разговор об «ученичестве у Головина» можно и завершить.
Моё знакомство с Олегом, как я уже сказал, пришлось на его творческий период, который можно обозначить как «нижегородский». Хотя правильнее было бы говорить – «муромский». Если иметь ввиду не исторический Муром, а «Третий Муром». Словосочетание, которое обозначает не только одноименную общественную организацию, но и реальность, находящуюся «по ту сторону звезд». И эта реальность связана как с нами, обычными людьми, так и с личностями святых. Я знаю, что Олега отговаривали от поездки в Нижний, но мне также известно кто привел его туда. Это святые, которых он очень почитал. Если в том мире есть то, что можно назвать «дружинами праведников», то он представитель святых муромских князей Петра и Февронии. Он много о чём просил и многое получил, но это не тема общедоступных публикаций. Итак, почему Муром Фомина – Третий? Потому, что был первый и второй. Первый – тот, в котором царит наивность юности. Где в силу беззаботной простоты бывает очень легко дотянуться до звезд. Где многое прощается и где на очень многое есть силы. В этом Муроме и венчалась святая чета. Но наступает время второго Мурома – время гонения, презрения, отчуждения. Время расчета и время нужды. Муром из которого Фефрония изгнана, а сам Петр сомневается в правоте Божьей воли. Но и это время проходит. И когда оно проходит, мы слышим звон колоколов Третьего и последнего Мурома. Это Град покаяния, и град возвращенной любви. Это и есть Артания, Арктогея и то Царствие, где, верю, ныне пребывает и сам Олег.
Олег Фомин уникален. Он воплощал очень специфическую, тонкую метафизику русского православного традиционализма. На самом деле все Традиции народов Земли, все версии «язычеств» – это не самодостаточные доктрины, но искажение и разные формы уклонения от единой Изначальной Традиции, существовавшей со времен Адама и Еввы, которую сегодня мы знаем под именем Православия. Во время нашей последней с ним встречи он напомнил такую историю из Аггады. Когда царь Давыд (после падения последнего бастиона индоевропейской монотеистической Традиции – Троянского царства), получил право на царский титул, и в искупление своего греха с хаттеянкой Вирсавией (матерью Соломона), приступил к созданию Псалтыри, с ним приключилось одно очень любопытное событие. Итак, ночью, перед предстоящим сражением, находясь в шатре посреди войска, он пребывал в молитве. Но была весна и его постоянно отвлекало кваканье лягушек. Тогда он вышел и приказал одному из своих подчиненных как-нибудь «заткнуть им рты». Вернувшись он увидел лягушку, на листе пергамента, которая спросила его человеческим голосом: – По какому праву, о великий Царь, ты запрещаешь славить нам Бога, так как нам это дано Им самим? Тогда Давыд взял перо и записал: Всякое дыхание да хвалитъ Господа (Пс. 150:6). Именно эта история, по мнению Олега Фомина, вдохновила создателей фресок знаменитого Дмитровского собора во Владимире, стены которого изобилуют «звериными мотивами». Изучая эти, и подобные им изображения, он пришел к выводу о том, что на рубеже XV – XVI вв. внутри русской церкви, ещё почти за двести лет до трагического Раскола, происходил процесс выхолащивания древней изографической традиции, который практически не нашёл отражения в памятниках историографии. С т.з. философии традиционализма иначе и быть не может, ведь основным содержанием истории этого мира является энтропийный распад и повсеместная десакрализация. Единый народ, язык и Традиция распадаются на множество частей и теряют свою былую чистоту извращаясь в язычество, суеверия и местечковые культы. Поэтому, например, в Благовещенском соборе Московского кремля, который был построен в конце XV века, над древней темперной уставной надписью «Сивилла» позже было надписано непонятое уже древним реставратором и поэтому искаженное при подновлении масляной краской имя «Сакалам». Так со стен наших храмов сошли и канули в лету Сивилла и Гермес, Гомер, Платон, Аристотель и другие «внешние мудрецы». Также как ранее это случилось с сиринами и грифонами, уроборосами и китоврасом.
Вопрос «о магии». Олег был абсолютно чужд магии. Исключения составляли разве что сны и сильные чувства. Но они ведь и есть та самая «алхимическая вода», о которой говорил Головин. Отношение к ним всегда было осторожным, как и у всех, кто задет нервом традиционализма. На несколько десятилетий ранее Ю.Н. Стефанов в своём стихотворении «Навсегда» писал: «Сны темны, сны чудны. / Но лучше ли, хуже ли / Яви, да и существует ли явь —/ Не сужу. Кто меня поумней, обнаружили, / Что шутить с ними — Боже избавь...».
Для того, чтобы объяснить, к примеру, просто любовь, догматов и аристотелевской логики хватит лишь абсолютному дебилу или человеку, который никогда не любил. Поэтому отсутствие магического дискурса у нормальных людей объясняется вовсе не их «ортодоксальностью», а полным нежеланием или неспособностью объяснять. Остальным некий здоровый магизм присущ. Когда мы виделись последний раз, и Олег вышел из дома (он был болен, и ему было очень тяжело), навстречу выбежал чёрный кот. Он просто прямо норовил перебежать дорогу человеку, идущему в машину кардиореанимации. Я, разумеется, увидев это попытался отогнать его, так, незаметно для всех. Фомин это всё же заметил и сказал: «Вот, когда, дед мой умирал, также пришел черный кот. Но вы не волнуйтесь – каждому своя мера испытания и утешения»…
Мы не случайно упомянули здесь стихи Стефанова. Олег был лично знаком с ним. И здесь следует сказать несколько слов и об этом человеке, который по его же собственным словам «в телевизоре папоротники выращивал». Юрия Николаевича Стефанова, более известного своими потрясающими переводами и стихами, в первую очередь все-же следует определить, как яркого представителя русской ветви традиционализма, причем традиционализма православного. Будучи лично знаком с Е.В. Головиным, являлся довольно ярким представителем московской мистической субкультуры 1960-80-х гг., и один из первых (а скорее даже первый!) переводил труды Рене Генона и его учеников, вводя их в контекст русской поздне-советской культуры. Из библиографических данных известно, что в детстве, находясь в городе Орле, в период оккупации, был контужен взрывом бомбы и был вылечен в немецком госпитале. Это несомненно сказалось на его независимой позиции в оценке общепринятых клише, свойственных т.н. "народной массе". Эта нетривиальность касалась и восприятия Традиции. В первую очередь Стефанов и подобные ему люди не воспринимают чудо как «нечто из ряда вон выходящее». Чудо естественно вплетается в ткань Вселенной, представляя собой не нечто случайное и необязательное, но её неотъемлемую часть и в конечном итоге её основу и смысл. Космос пронизан Богом, а Бог им. Только так может быть понимаема мистерия Боговоплощения во всей её полноте. Иначе мы получим лишь пустыню современного научного мировоззрения, возведенного в ранг религии. Мне рассказывали, что одну стену кабинета его московской квартиры занимали иконы северного письма, а на другой красовались многочисленные «языческие» артефакты, которые на самом деле являются такой же легитимной частью единой Традиции христианской ортодоксии, той что началась с Адама и была преисполнена Христом, и той что не имеет никакого отношения ни к квази-христианскому протестантизму разных изводов, ни к какой-либо иной из «авраамических традиций». Это иная логика, иного мира и иных людей.
Раз уж мы заговорили об этих «иных». Невозможно не упомянуть и В.И. Карпца. Лично мы почти не были знакомы. По публикациям он известен мне как поэт, философ-традиционалист, талантливый переводчик, писатель… Но даже это – не главное. Прежде всего В.И. Карпец был глубоко верующим человеком, сердце которого болело и жило Русью-Россией и её народом. Своё завещание он оставил нам в неизданной книге – «Царский Род». Во время конференции в 2011 году, понимая что у меня мало времени и надо задать вопрос поважнее, я спросил его, не без шутки: «В качестве правителя, нам подойдет Меровинг?». «Безусловно, – ответил он, – нам подойдет даже Ахеменид, просто думайте где его взять». Думаем, Владимир Игоревич, но пока не знаем, – отвечаю сейчас вполне серьезно. Как жалко, что нельзя спросить Вас ещё раз…
И Головин, и Стефанов, и Карпец, и Фомин воплощали посреди нашей секуляризированной действительности этих «иных», людей средневековья или, говоря иначе, человека Традиции. По крайней мере пытались это делать в силу таинственного и неуловимого зова, который возникает в душах людей по одному Ему известным причинам. Олег Фомин рано ушел из мира, но пришел он в него вовремя. Именно и только сейчас нам выпала задача превратить то, во что наши предки молчаливо, в простоте сердца, верили всегда, в рационально-опознанную и интеллектуально-институализированную метафизическую позицию. Можно сказать, что в гуще переплетения вселенских ангелических влияний Олег Фомин опознал и показал нам ту тропинку, по которой ранее уже прошел Ю.Н. Стефанов и В.И. Карпец и которой в будущем, даст Бог, суждено превратиться в широкий, долгий и славный путь Православной русской цивилизации. И тогда, те, кто пойдут позже, вспомнят добрым словом его, а он поможет не свернуть им.
Александр Иванов













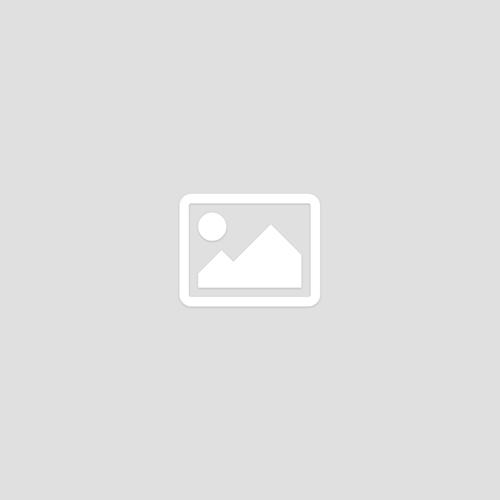





Комментарии (0)